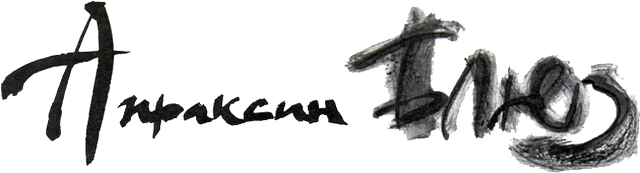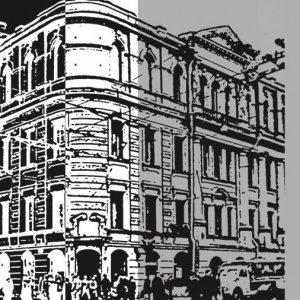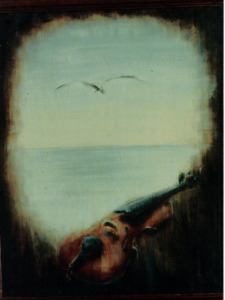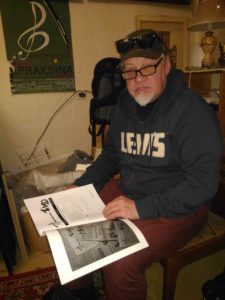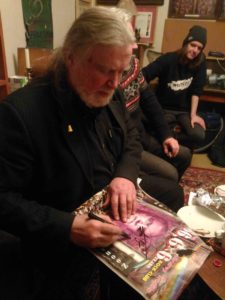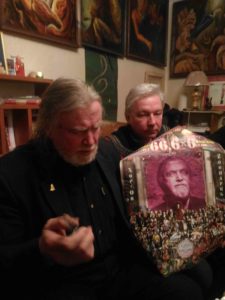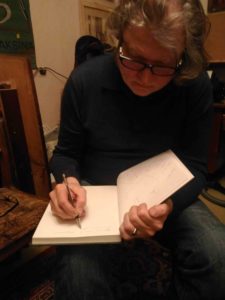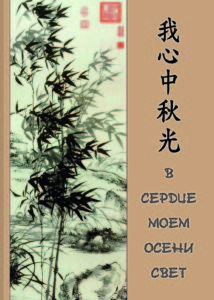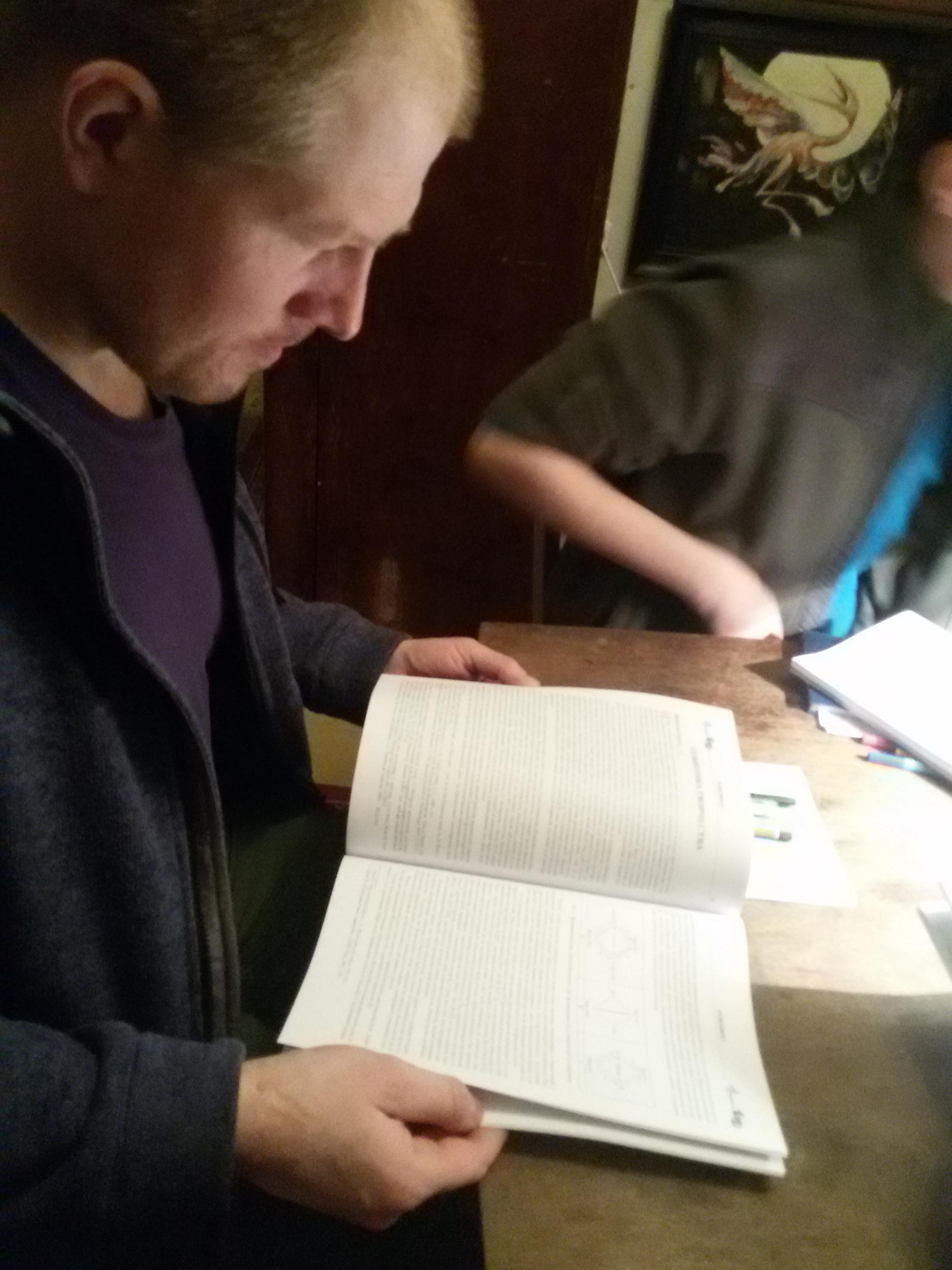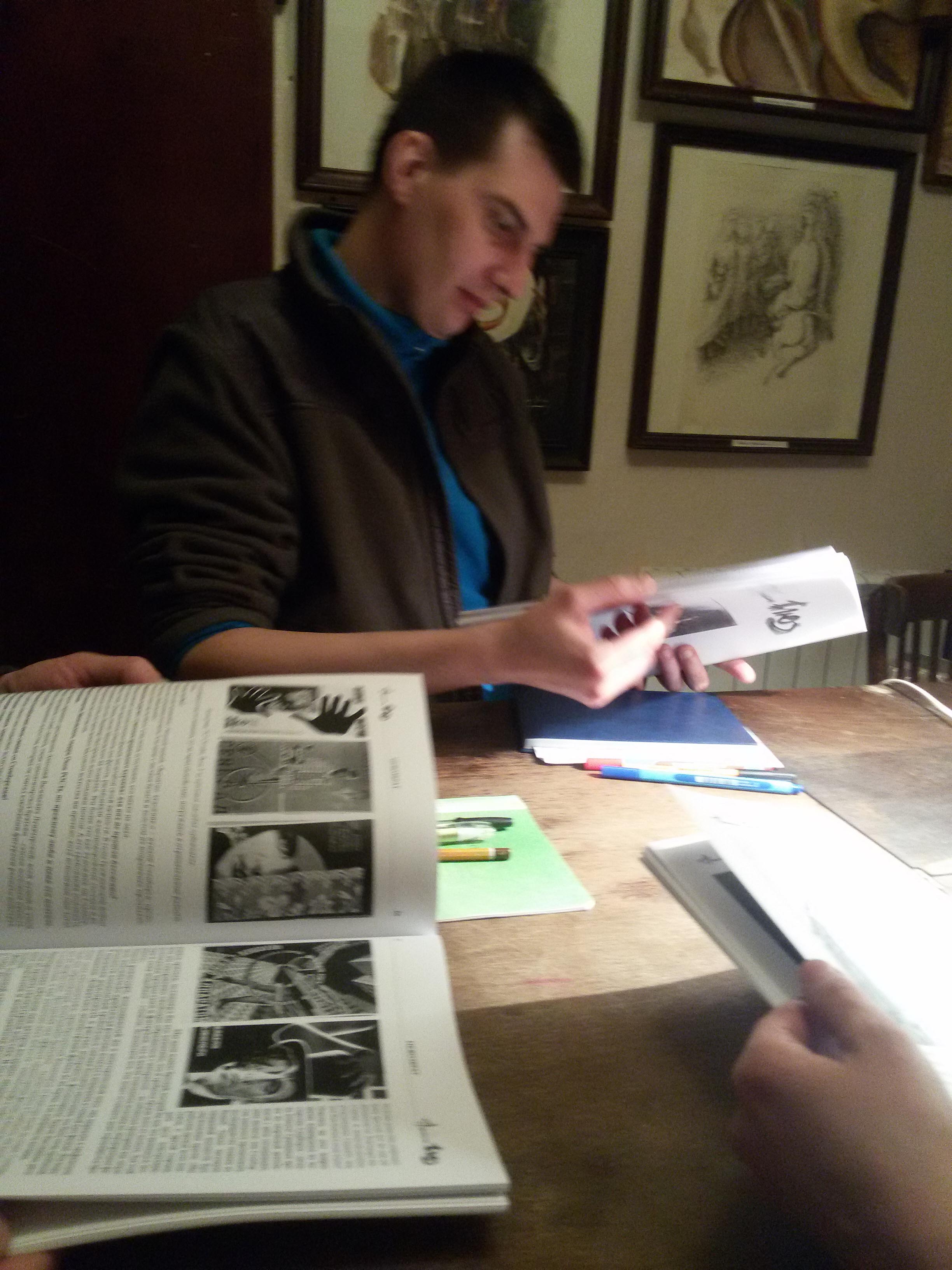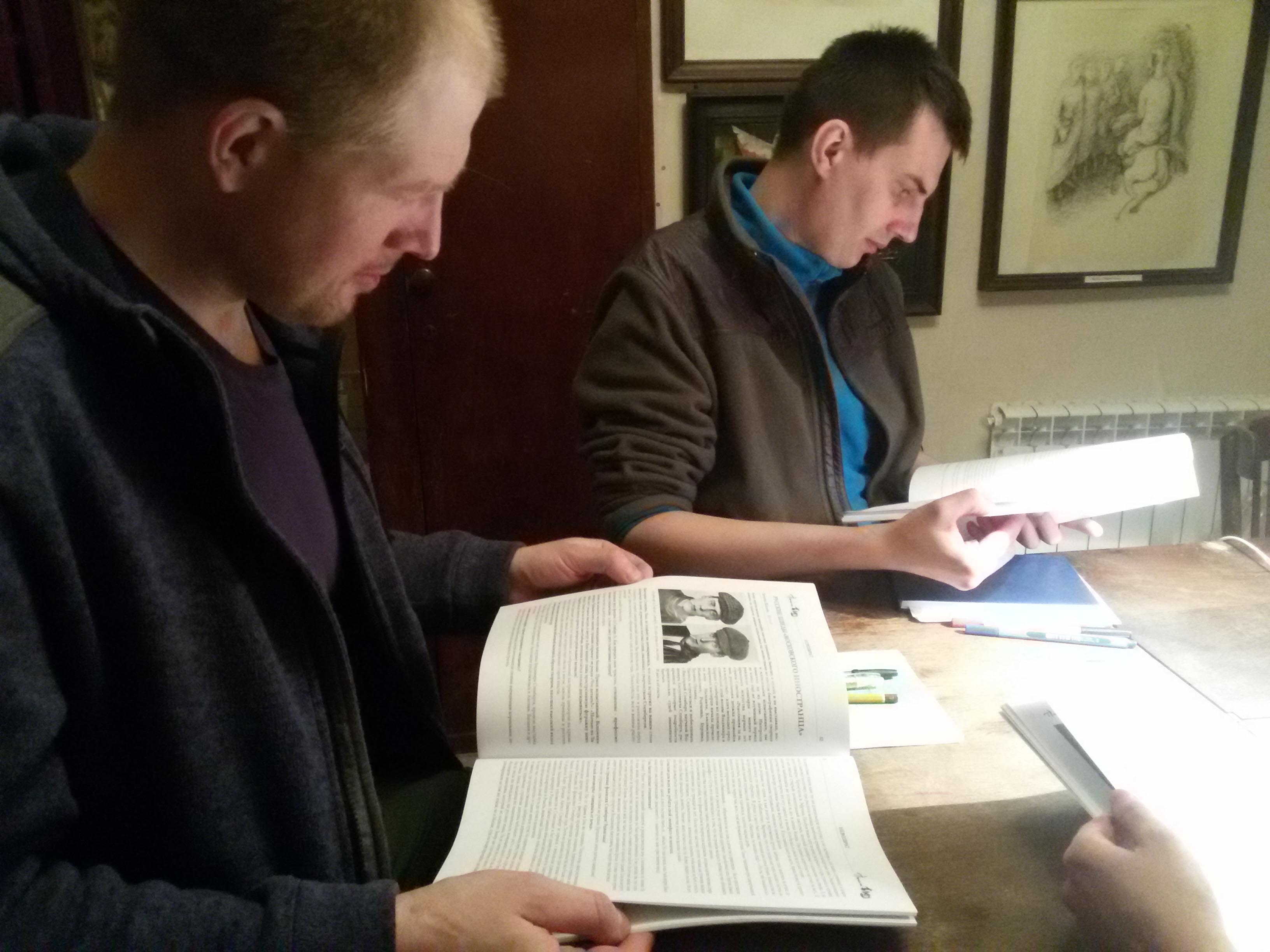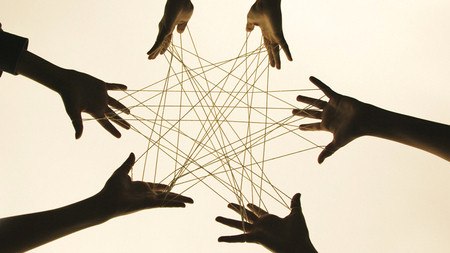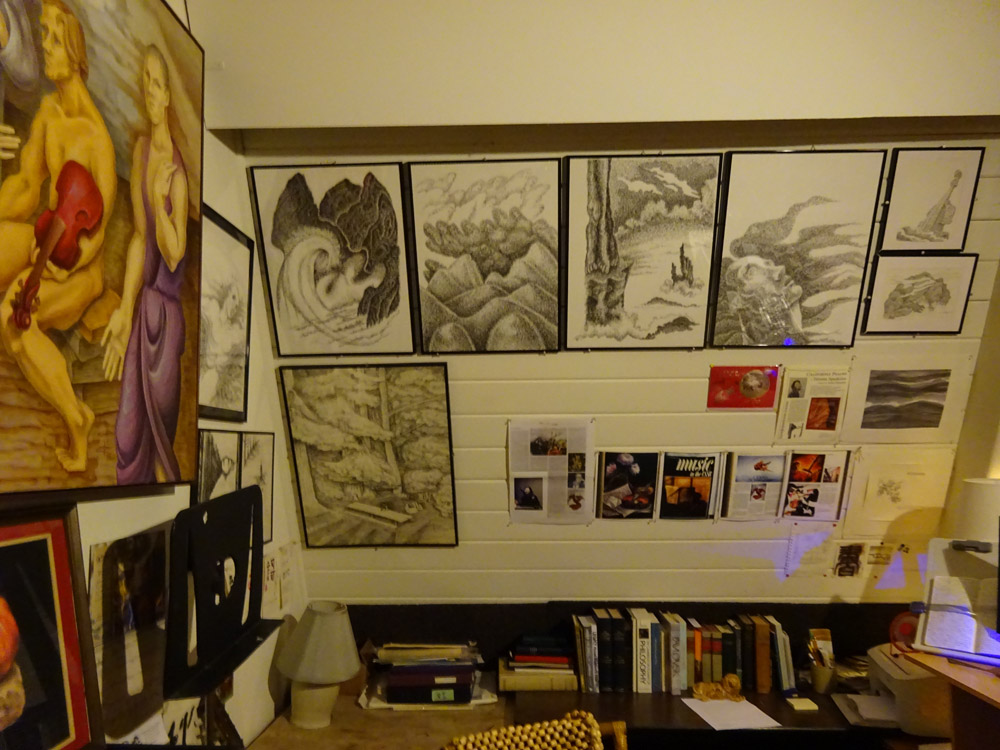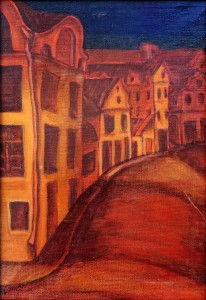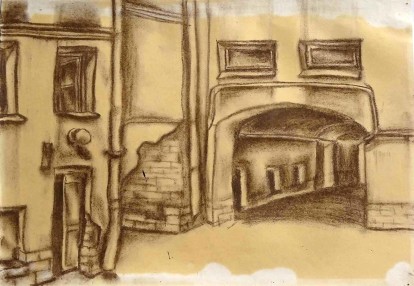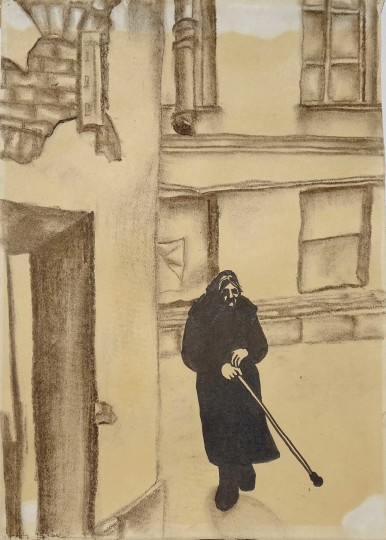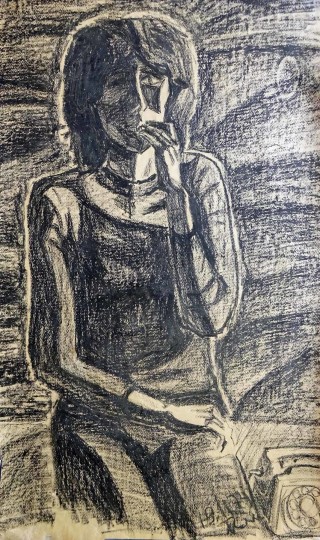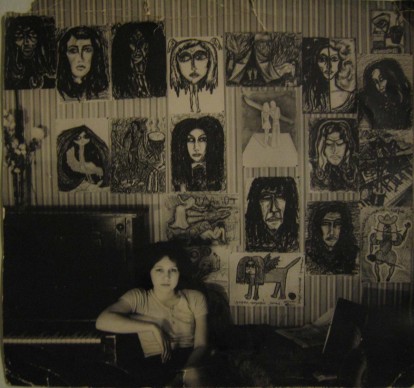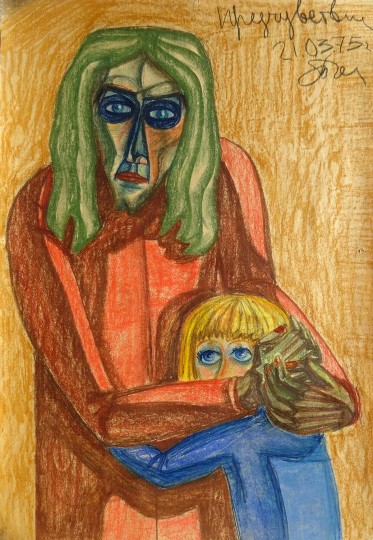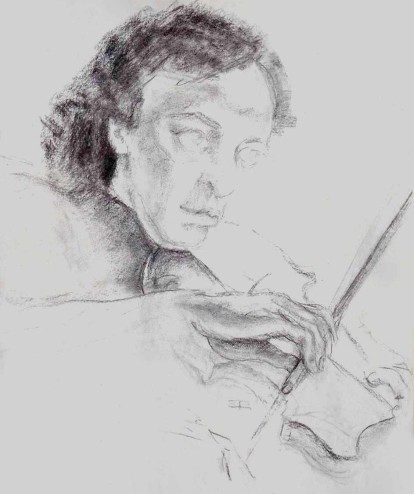9-11 ноября, 2019, Санкт-Петербург. Главный редактор Татьяна Апраксина и сторонники АБ в редакции на Апраксином переулке.

DSC01711
DSC01711

20191110_201441_a

20191110 201441 B
20191110 201441 B

20191111 012332 57962126525094
20191111 012332 57962126525094
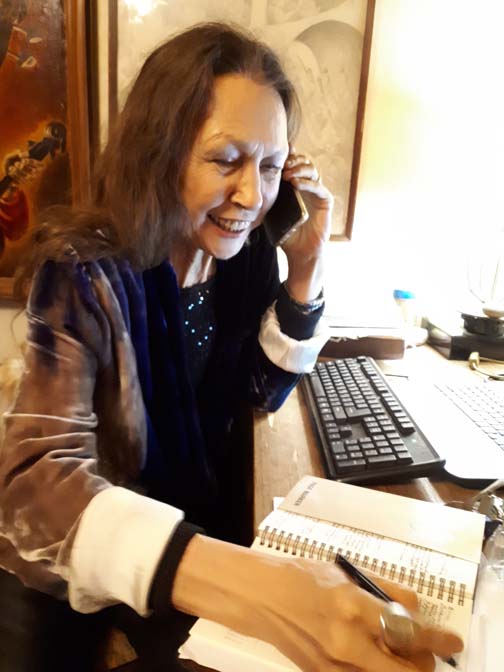
20191110 201721
20191110 201721

20191110 201524
20191110 201524

20191110_200246

20191110_200238

20191110_200235

DSC01709
DSC01709

DSC01708
DSC01708

DSC01707
DSC01707

DSC01706
DSC01706

DSC01705
DSC01705

DSC01704
DSC01704

20191110_200130

20191110_195902