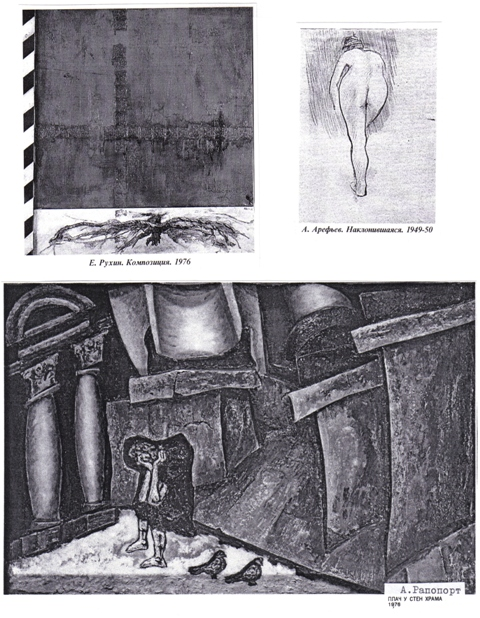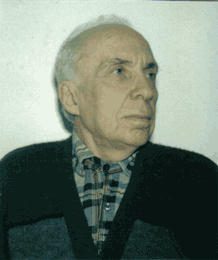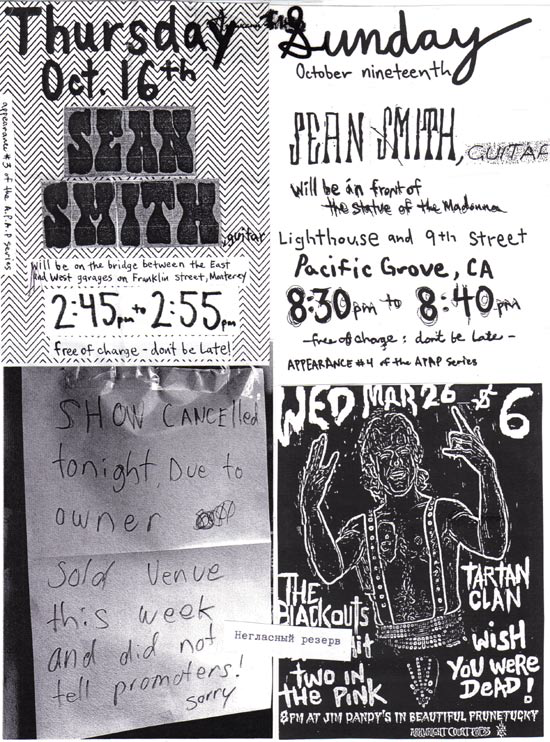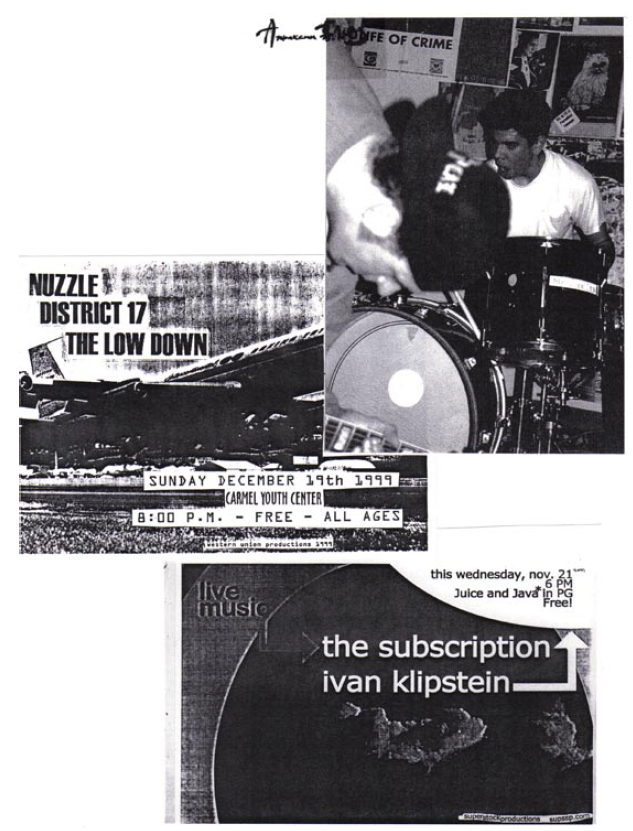1
Что уходит, когда птицы падают, обмякнув?
Плавучесть рыб уходит
и гибкость змей.
Что сохраняется
в аранжировке кожи?
Кто-то считает, что НИЧЕГО,
НИЧЕГО, КРОМЕ ФОРМЫ, не сохранится
в посмертных слепках стекловолокна,
раскрашенных руками до живого рыбьего
сверканья.
Энциклопедия об этом скажет так:
«Плоть после смерти истлевает».
2
Стать Мужчиной Парика
(из рассказа Джозефа Тано)
Возможно, воин молодой из племени Хули решает посещать семнадцать месяцев учёбу в школе париков, растит свои волосы сильными, укрепляя их ежедневно настоем трав. К выпуску он сплетает великолепный парик из своих же волос. Обычай и гордость велят его затем украсить.
Нуждаясь в перьях, он вяжет одну тысячу петель из внутреннего стебля кораллового папоротника, похожего на проволоку: каждая петля обвязывает женское запястье. Когда вязание закончено, он входит в лес и там проводит целый день, крепя узлы на ветках кустов шефферды.
А следующим утром, пока не рассвело, он собирается, и прячется, и поджидает петуха окрестной райской птицы – рагианы, которая идёт по веткам и ищет корм к заре. Удачлив воин. Он отлично выбрал место. Не знает птица трюк с узлами и вязнет головой по шею, стараясь выбраться из них.
Охотник, может быть, возьмёт лишь хвостовые перья (фонтан из арок цвета сомон), а птицу выпустит, чтоб отрастила перья снова. А может быть свернёт ей шею и освежует, наполняя шкурку мхом.
Потом Мужчина Парика лицо раскрасит жёлтым, как у птицы.
Потом он должен обучиться танцам.
Потом он сходит на войну.
Потом он, если выживет, обязан
найти себе жену.
3
Охотник за трофеями и озабоченный водитель
с совой амбарной, сбитой на дороге, в своей руке –
сюда приходят оба:
к таксидермисту,
к мудрецу дорог натуралисту,
к охотнику, холодному, как кость,
свежующему мёртвых,
к шаману с погремушкой из копыта, имбирём
и охрой цвета крови.
Идёт работа в задних комнатах при свете дня.
У одного в десятке тысяч Леонардовы глаза,
Чтоб смочь построить храм из миловидных мёртвых.
4
Помнишь белого медведя в терминале аэровокзала?
Из-за волос, прозрачных и пустых, как лучшее стекло,
он светится.
В формальных парках Вены обитают птицы, поющие одни
классические темы.
Особый свет приманивает пыль перед паденьем в солнечные чердаки
прославленных музеев
на экспонаты, растрёпанные и забытые.
Я всегда подбирал перья и камни.
В пятьдесят мои волосы наконец достаточно длинны,
чтобы вплести в них перья.
5
Современный обиход холоден и хирургичен:
для птиц или млекопитающих:
аккуратно снимается кожа;
измеряется туша;
удаляется плоть;
иссушаются
кости и связки;
для рыб и рептилий:
их тело вымерено жидким силиконом;
а слепок высушен, наполнен стекловолокном
и выкрашен с определённой бережностью.
Орудия:
микрометр,
фотография,
спектральный круг;
тетради заполнены
старательным почерком.
6
Ловкие практики вкладывают себя
в лучшие глаза, какие им под силу,
Работая хромовой кислотой,
уриной и пеплом, тинктурой меркурия —
холят облачения радужных птиц;
ставят своих тварей осторожно, как вопросы,
изобретённые необычайными учёными,
и в любопытстве остающимися скрупулёзными.
Кости в арматуре размещают;
глиной их поверхность облепляют –
сверяясь всегда (по ходу дела)
с памятью о живых и целых.
Затем ковкой проволокой,
чёрной нитью и согнутой
иглой, зелёной, как малахит,
делают и прячут гладкие швы;
затягивают каждый шов туго
и непромокаемо глухо.

/перевод с английского/


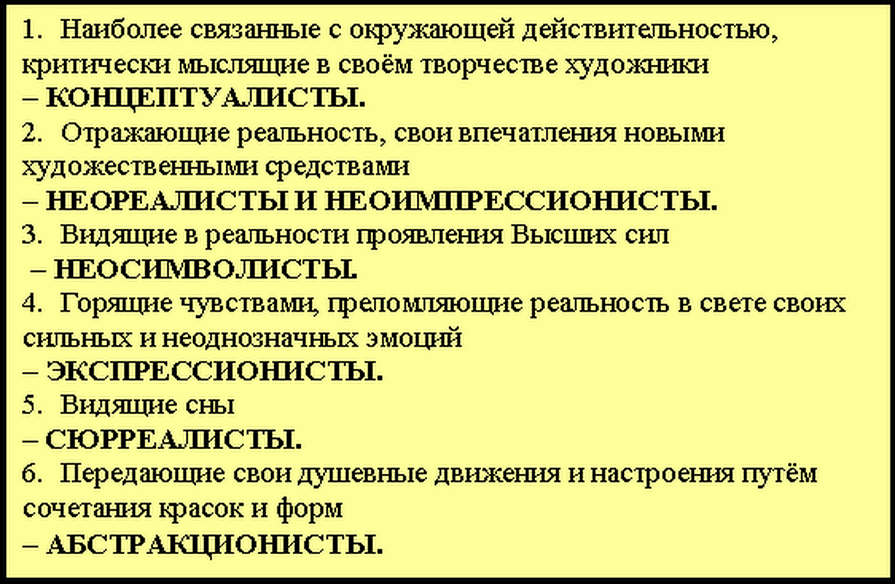 другие – в дворницких и кочегарках) и фигуральном смысле, переходили к мечтам и надеждам. Как видения перед ними, наряду с взбудораженно-лихорадочными, часто исполненными ненависти сценами реальной жизни, вдруг вставали образы бесконечного простора и счастья, сменявшиеся отражениями трагического смятения души. Многие из них в своём творчестве доказали, что человек, тем более художник, может отринуть общественный уровень существования и обитать в безбрежном Бытии, питаясь автотрофно, черпая подлинное содержание в себе, в сенсуализации ощущений, в тонкостях внутренней жизни, в метафизике и эстетике. Для других искусство служило сферой проявления социальной активности. Вслед за М. Вламинком они удовлетворяли стремление “не подчиняться, создавать мир, живой и освобождённый”.
другие – в дворницких и кочегарках) и фигуральном смысле, переходили к мечтам и надеждам. Как видения перед ними, наряду с взбудораженно-лихорадочными, часто исполненными ненависти сценами реальной жизни, вдруг вставали образы бесконечного простора и счастья, сменявшиеся отражениями трагического смятения души. Многие из них в своём творчестве доказали, что человек, тем более художник, может отринуть общественный уровень существования и обитать в безбрежном Бытии, питаясь автотрофно, черпая подлинное содержание в себе, в сенсуализации ощущений, в тонкостях внутренней жизни, в метафизике и эстетике. Для других искусство служило сферой проявления социальной активности. Вслед за М. Вламинком они удовлетворяли стремление “не подчиняться, создавать мир, живой и освобождённый”.