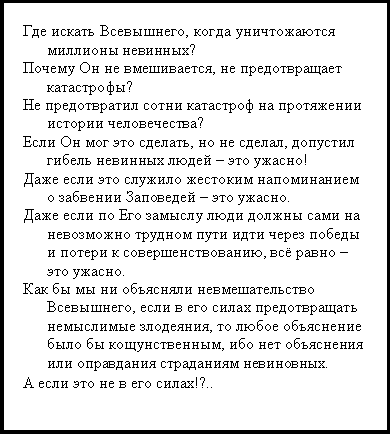Архивная версия (полный текст для чтения вне России)
На границе тайны искусства
Прежде всего стоит задуматься, зачем нам нужен этот разговор об искусстве – о сущности и назначении, о признаках искусства, его отличиях от других проявлений человеческого духа. Нужно ли вообще пытаться давать какие-нибудь (скорее всего, несовершенные) определения таким неуловимым и неисчерпаемым понятиям, как вера, познание, культура, искусство; любовь, наконец? Не правда ли, мы ведь интуитивно чувствуем, что все они из какого-то одного принципиально не-определимого ряда? Не лучше ли даже не пытаться определять это неопределимое или, по крайней мере, не оставить ли эту задачу «узким специалистам» – теологам, философам, культурологам, искусствоведам и… – кажется, слава богу, ещё нет специалистов по любви (не будем же мы считать таковыми сексологов). Разве не можем мы: просто познавать окружающий нас мир, использовать достижения культуры, верить в Бога, создавать искусство и наслаждаться им; наконец, любить, – не понимая толком, что всё это такое? Наверное, можем; мы, большей частью, так и поступаем. Однако я убеждён, что человечество осуждено вечно блуждать в кругу этих понятий, снова и снова определяя и корректируя их и само тем самым меняясь в ходе истории. И каждый человек на протяжении своей жизни – своей личной истории – тоже призван (это очень точное слово!) осмысливать для себя всё, доступное его разуму, срывая маски абстракций с персонажей философии. Конкретизация абстракций, в конечном счёте, раздвигает для нас границы осознанного бытия; стремление к этому, возможно, и есть наша главная функция в этом мире.
Все люди, осознанно или бессознательно, поклоняются загадочному Чёрному камню Искусства – это наша Мекка, о которой, как Вы говорите, «забывать никогда не следует». Но поклоняться и помнить – совсем не значит понимать. И не окажется ли кощунством сама попытка понять кем, когда и зачем этот камень поставлен, и, тем более, – попытка ответить на вопрос: что там внутри? Я осознаю всю сложность и даже безнадёжность поиска ответов на эти вопросы. Даже не могу достаточно чётко сформулировать, почему я над ними задумываюсь, но, видимо, я нуждаюсь в таком осознании.
Нам придётся признать, что есть понятия, перед которыми пока пасуют рациональные, «алгебраические», методы человеческого разума, стремящегося всё так или иначе определить, классифицировать, всему найти своё точное место. Это не значит, что применять их не нужно, но мы должны понимать, что существует некий предел, за которым они начинают давать сбой. Тогда и следует надеяться на те «лирические» критерии, которые помогают «видеть сердцем» – и разве такой способ видения не является сущностью самого искусства? «Зашей глаза, пусть сердце станет глазом», – так этот путь познания отмечен Руми, персидским суфийским поэтом XIII века [1, стр. 613].
Даже успешная попытка поверить алгеброй философии гармонию искусства не избавит нас от ощущения, что искусство окутано некой мистической тайной, что оно загадочно и в значительной степени непостижимо – быть может, в гораздо большей степени, чем другие проявления духа. Тайна есть и в том, как рождается произведение искусства, и в том, как оно воспринимается человеком. Назовите то и другое чудом, но этим, вы, конечно же, ничего не объясните. Если мы всё же хотим хотя бы приблизиться к истине, относящейся к этой древней и вечно обновляющейся области человеческой деятельности, мы должны вступать в её пределы с трепетом, хотя и не теряя надежды что-нибудь разглядеть сквозь нависший над нею туман. Здесь нельзя во всём полагаться только на разум и научные компасы.
В ходе разговора хотелось бы, в частности, понять, что такое искусство и что такое не-искусство и как отличить одно от другого; есть ли вообще между ними граница, и, если она есть, то где она. «Определите понятия, – советовал Декарт, – и вы избавите мир от половины заблуждений». Не будем претендовать на избавление мира, но от части своих собственных заблуждений избавиться хотелось бы.
Понятие «искусство» трудно вычленить из целостного духовного мира человека и не менее трудно чётко отделить его от «не-искусства». Граница между ними каждым человеком на интуитивном уровне ощущается, но всё же остаётся достаточно размытой.
Вообще, – как только мы пытаемся давать определения сложным понятиям, связанным с жизнью духа, как только начинаем говорить о «границах» этих понятий, мы сразу же сталкиваемся с общегносеологической проблемой восприятия нами цельности мира. Здесь уместно вспомнить Ваши слова о «часто ошибочном определении критериев и признаков, по которым производится «сближение» понятий», о том, что «границы между алгеброй и гармонией пролегают исключительно в невосприятии их неразделимости», что «вся разница, измеряемая и определяемая, существует лишь в процедуре выражения – не в процессе осуществления». Эти слова относятся, если я правильно их понял, к процессу познания, субъективного отображения действительности нашим сознанием.
Что же касается объективного существования (или того, что Вы, возможно, назвали «процессом осуществления»), то здесь можно с равной доказательностью утверждать как то, что «мир един», так и то, что «всё ото всего отличается», потому что вселенная в каком-то смысле безгранично едина, а в каком-то – бесконечно разнообразна. И то и другое – фундаментальные свойства материи и бытия, и трудно сказать, что важнее: видеть границы сущностей и явлений или понимать условность этих границ. Иногда в процессе познания важнее одно, иногда другое. Иной раз чисто рациональные, надуманные дефиниции и размежевания сущностей в «лирической и физической сферах» (Ваше выражение) могут помочь решить какую-то частную задачу, но как редко они приводят к подлинным открытиям в сфере духа! Вы правы, часто важнее и полезнее понять глубоко скрытую общность исследуемых явлений, чем пытаться провести между ними границы, изобретаемые разумом для удобства познания. В глубинном познаниии мира огромную роль играют интуиция, наитие, озарение, под крыльями которых и колдует искусство. Именно оно чаще всего и способно раскрыть нам не постижимое другими способами единство сущностей.
Важно заметить, что искусство, в отличие от науки, обращено, в принципе, к каждому, тогда как все отрасли современной науки (включая гуманитарные) стали такими бесконечно специализированными, что добыча ими Нового Знания возможна только путём углубления в закоулки, в обособленные исследовательские норы. И совершенно закономерно, что каждая группа специалистов, ведущих свои разработки, не имеет чёткого представления о происходящем в соседних норах, а главное – не может отвлекаться на то, что (по Вашим словам) «всё уже есть одно»; тем более, не может уяснить – «КАК оно есть одно». В чём-то это является бедой современной науки и, вместе с тем, возможно, есть главный источник недоумений современного человечества. Однако, как кажется, нарастающая интеграция мира со временем неизбежно потребует Нового Возрождения и своих Леонардо; я в это, как и Вы, верю. Научное осознание единства мира, возможно, отзовётся и новым витком развития искусства.
Всё сказанное имеет прямое отношение к методике наших изысканий: не будем ограничиваться только какими-либо «внутрисистемными точными методическими средствами» (по Вашему выражению), будь они хоть «физическими», хоть «лирическими», хоть искусствоведческими. Давайте свободно пользоваться как рациональными, «алгебраическими», методами и средствами, так и черпать из мифологии, религии, мистики – любых иррациональных проявлений человеческого духа, без которых, мне кажется, невозможно понимание особенностей искусства.
Вот давайте с некоторых мистических аспектов темы и начнём.
Свет творчества
Вспомним растерянное признание Жана Кокто: «Я знаю, что искусство совершенно необходимо, только не знаю зачем», – вместе с ним это знают и этого не знают многие. И многие инстинктивно ощущают, что искусство – это и есть тот внешний, даже внеземной, надприродный свет, который помогает людям почувствовать – именно скорее почувствовать, чем понять, – откуда они пришли, куда и зачем идут.
Искусство – не рядом с Богом, не дано от Бога, оно там, где Бог, оно неотделимо от Творца и изначально растворено в акте творения. Ведь первое, что было создано, – это свет; именно свет позволит и Богу и людям в дальнейшем различать всё сущее, – а разве не в этом состоит главное назначение духа и, в частности, искусства?
Первое создание Бога сразу же получило оценку, в которой была и эстетическая составляющая: «И увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы» (Бытие, 1:4) [2]; заметим, что «хороший» – понятие ёмкое: это и полезный, достойный, и красивый, прекрасный. Итак, прекрасное явилось в мир вместе со светом, до человека и независимо от него. Недаром о видимом отблеске творчества, красоте, мы иногда говорим «божественный свет»…
Бог-Творец являет себя не как ремесленник, изготовитель утилитарных сущностей, а как изобретатель и, может быть прежде всего, – как поэт и художник. Художественный подтекст творений природы тонко подметил В.Розанов: «…В растении, «как растёт оно», есть ещё художество. (…) Разве «ель на косогоре» не художественное произведение? Разве она не картина ранее, чем её можно было взять на картину? Откуда вот это-то?! Боже, откуда? Боже, – от Тебя» [1, стр. 606]. Рафаэль Кансинос-Ассенс (малоизвестный наставник Борхеса) назвал Бога «высочайшим поэтом, автором той совершенной рифмы, что зовётся миром» [3, стр. 545]. «Искусство – природа человека, природа – искусство Бога», – так английский поэт Филип Бейли связал Бога, природу, человека с искусством. Другой, русский, поэт говорил о природе и искусстве как о двух самостоятельных силах, формирующих человека [4, стр. 330]:
«Так век за веком – скоро ли, Господь? –
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства».
Искусство более всех других видов человеческой деятельности приближено к Богу: создавая произведение искусства или воспринимая его, человек, подобно Богу, вершит вне себя или в самом себе акт творения нового мира из небытия.
«В любом процессе творчества» усматривается, по Вашим словам, некая «универсальная и всеобщая методология». Осмелимся включить в неё и деятельность Творца вселенной, потому что творчество – Бога ли, человека ли – едино во всех его компонентах и проявлениях. (Здесь речь может идти, конечно, только о нашем понимании Творца и творчества вообще: по В.И.Далю, «творец» – делатель, производитель, исполнитель, изобретатель, сочинитель, основатель; «творить» – значит давать бытие, созидать, производить, рождать.) И если человек действительно может считать себя подобием Творца, то он должен походить на Него – как в сути творческого процесса, так и в его деталях. Это подобие – в разных отношениях – отмечалось многими мыслителями: «Художник должен присутствовать в своём произведении, как Бог во вселенной: быть вездесущим и невидимым», – это высказывание Гюстава Флобера.
Одним из компонентов творчества является, по Вашему наблюдению, «процесс постепенного наращивания энергии». Такого рода процесс мы можем найти и в первой главе книги Бытие, где описывается создание всё более и более сложных форм. Любая эволюция, и эволюция искусства в том числе, идёт путём усложнения форм материальных сущностей и способов выражения идеальных понятий. (Впрочем, тут же оговорюсь, что историю искусства нельзя, видимо, сводить к «усложнению». Что «сложнее»: наскальная живопись нашего предка, рисунок Модильяни или произведение современного художника-абстракциониста? Я не знаю, как ответить на этот вопрос.)
Далее, говоря о творческом акте, Вы замечаете, что «в случае «человеческого» это то, что по-простому называется «превзойти себя», – более того: В сущности, творчество даже в самом обыденном виде требует себя «убить»». Это «убийство себя» (для творения нового) в некотором смысле присуще и Богу – вспомним хотя бы вовсе не случайный миф об умирающем и воскресающем Озирисе или подвиг Христа. Создавая мир, Бог не то чтобы «умирает», но ограничивает, укрощает, в определённой степени частично «упраздняет» самого себя из-за необходимости соблюдать им же введенные законы вселенной. (Нельзя, например, чтобы атом водорода приобрёл вдруг другой состав – это разрушило бы уже созданный мир.) Богу, как и любому художнику, приходится придерживаться собственных правил игры, иначе игра не состоится вовсе.
Помимо единства творческого процесса, есть ещё одна особенность, которая наиболее ярко подчёркивает сходство творчества человека с творчеством Бога, – это трагическое стремление к совершенству. Трансцендентная «трагедия» Бога, Его «разочарование», заключается в недостижимости абсолютного совершенства творения. «…И скорбь объяла Его. И сказал Бог: «…Сожалею, что Я сотворил их»» (Бытие, 6:6,7), – это сказано было о людях, а ведь в конце шестого дня творения казалось, что всё созданное «очень хорошо». Однако, если бы созданный мир был действительно совершенным, то он оказался бы в этом отношении равным Творцу, а Богу ничто равным быть не может – это противоречит принципу Его единственности. Кроме того, совершенный мир был бы лишён возможности прогрессивного развития, так как абсолютно совершенное не может стать ещё совершеннее.
Что же касается вечно актуальной трагедии художника, то она есть результат его собственного природного несовершенства и несовершенства его творений (осознаваемого им самим с жестоким разочарованием). Понимание этого идёт из глубочайшей древности, оно родилось в тот же момент, что и искусство. И современный человек может повторить то, что было сказано в «Поучении Птаххотепа», написанном в Египте в эпоху Древнего царства, в III тыс. до н. э. (!): «Искусство не знает предела. Разве может художник достигнуть вершин мастерства? Как изумруд, скрыто под спудом разумное слово» [5, стр. 27].
Возможно мы никогда не поймём до конца, почему и Творец природы и творцы искусства всегда стремятся к максимальному совершенству. Инженер и ремесленник вполне могут удовлетвориться целесообразно приемлемым качеством созданного, но художник – никогда. Не является ли порыв художника к недостижимому совершенству отражением какого-то непреложного закона развития всего сущего от низшего к высшему, этого, быть может, самого глубинного «методологического» закона природы?
Искушение искусством
Выше мы говорили, что Бог-Творец – подлинный художник, а вселенная – уникальное произведение искусства. Но искусство к тому же и дар человеку: в более узком, прямом, смысле слова самым первым произведением искусства можно признать созданный Богом с вполне определённой целью «плод дерева в середине сада» (позже его ошибочно называли яблоком). Хотя и было это творение «хорошо для еды», но не только полезные его свойства привлекли первую женщину (были в раю и иные пригодные для еды «плоды деревьев»). Важным качеством, послужившим соблазнительности этого плода, было, помимо его запретности, то, что он был «желанен глазам и привлекателен, чтобы обрести разум» (Бытие, 3:6). Этим свойством «привлекательности» как раз и обладает искусство. Именно это, а не «пищевая полезность» запретного плода послужили тому, что потянулась к нему душа человека. «Красота – это обещание счастья», – заметил некогда Гоббс [1, стр. 188]; – как же было не поверить этому обещанию? Приведём здесь ещё слова Бердяева: «Красота – не только цель искусства, но и цель жизни. И цель последняя – не красота как культурная ценность, а красота как сущее, т.е. претворение хаотического уродства мира в красоту космоса» [6, стр. 216]. Неудивительно, что первый шаг был сделан именно женщиной, – ведь ей, в большей степени, чем мужчине, свойственны эмоциональное восприятие мира, тонкое понимание красоты и, наконец, то благое любопытство и жажда счастья, без которых люди не стали бы людьми.
Ева хорошо понимала, что делает, чем грозит её порыв: «И ответила женщина змею: «От плодов деревьев сада можем есть. Только о плоде дерева, которое в середине сада, Бог сказал: Не ешьте от него и не притрагивайтесь к нему, чтобы не умереть»» (Бытие, 3:2,3). Не означает ли в таком случае неудержимый, спровоцированный искусством, порыв человека к неведомому, запретному, что искусство способно победить если не саму смерть, то, по крайней мере, – страх смерти? (Как раз об этом, но в другом ракурсе, рассказывает и прекрасная андерсоновская сказка «Соловей».)
Библейское сказание о грехопадении говорит нам и о том, что первый притягательный импульс в восприятии произведения искусства создаётся эмоцией, зовом сердца, за которыми лишь потом следует разум. (Иногда разум может не вмешиваться вовсе – например, когда мы слушаем музыку.) Сначала мы бессознательно поддаёмся очарованию, настроению, созданному чередованием ритмов, красок и теней, пластикой движений и многим другим «желанным для глаза» (а также для слуха), и лишь потом, завороженные, начинаем незаметно для себя постигать смысл – «обретать разум». В искусстве возбуждение эмоций, чувственный порыв сердца, восприятие «формы» всегда предшествуют рациональным усилиям ума, многократно обостряя, тем самым, способность человека проникать в новое «содержание», в скрытую суть вещей и явлений. «Красота заставляет нас думать», – подметил французский философ Ален [1, стр. 29].
Человек, не способный поддаться на провокацию искусства, оставшийся равнодушным к эстетической «желанности», человек, душа которого не тянется к запретному плоду, – лишён, тем самым, быть может самого действенного способа познания мира и, значит, его обошла предсказанная «змеем» общечеловеческая участь: «…Бог знает, что в день, когда от него поедите, ваши глаза откроются, и станете как Бог, знающими добро и зло» (Бытие, 3:5). Глаза человека, отвернувшегося от красоты, слепы, он, избегающий соблазна, не может в полной мере постичь, что на самом деле суть добро и зло.
Итак, первое произведение искусства, искусственно и искусно созданное Богом, змей-искуситель использовал для искушения первого человека. Разве не удивительно, что в этой достаточно короткой и, кажется, вполне осмысленной фразе поместились пять однокоренных слов: искусство, искусственный, искусный, искуситель, искушение? Такого рода совпадение корней во внешне далёких друг от друга по смыслу словах не случайно: за этим часто скрывается потонувший в безднах этногенеза смысл.
Хотя понятия «искусство» и «искушение» выражаются однокоренными словами в сравнительно немногих языках (например, в русском и болгарском), но возможно здесь мы получаем даже и в самом языке подтверждение искусительной сущности искусства, сыгравшего свою роль в грехопадении и, следовательно, – в инициации процесса познания мира человеком. Говоря о «начале», о первом искушении, можно вспомнить слова Марины Цветаевой о последнем искусе: «Искусство – искус, может быть, самый последний, самый тонкий, самый неодолимый соблазн земли…» [3, стр. 140]. Вот и выходит: то, что началось с Божьего искусства соблазна, заканчивается человеческим соблазном искусства.
Всегда ли искусство – добро?
Разговор об искушении искусством неизбежно приведёт нас к вопросу о том, всегда ли искусство и порождаемая им искусственная (то есть не-природная) красота являются благом и можно ли отождествлять их с добром и истиной. Издавна разные мыслители давали совершенно противоположные ответы на этот вопрос.
С одной стороны, искусство и красота суть добро и несут в себе свет истины.
Пётр Чаадаев: «…Несомненно, что красота и добро исходят из одного источника и подчиняются одному и тому же закону…» [7, стр. 195].
Фридрих Вильгельм Шеллинг: «Истина, которая одновременно не является красотой, не есть абсолютная истина, и наоборот» [1, стр. 838]. (Как, всё же, должно звучать это «наоборот»: «Красота, которая одновременно не есть истина, не есть подлинная красота»? Но всегда ли мы способны оценить истинность красоты?)
Ален (Эмиль-Огюст Шартье), французский философ: «Красота – первый признак подлинности» [1, стр. 32] – удивительная перекличка с предыдущим высказыванием!
Владимир Набоков, говоря о поэтическом творчестве Пушкина, заметил: «…В самых его затаённых уголках звучит одна истина и она единственная на этом свете: истина искусства»; и далее: «…Ни на одно мгновенье не поблекла истина Пушкина, нерушимая, как сознание» [8, стр. 150, 151]. Итак, искусство не только истина, оно – истина единственная и нерушимая!
Джордж Сантаяна, американский философ, рассматривал красоту «как положительную, истинную и объективную ценность», а также как «свойство вещи», способное доставлять наслаждение, которое есть благо [9, стр. 296].
С другой стороны, многие считали, что искусство часто не тождественно добру, что оно представляет собой ложь и опасный соблазн.
Фома Аквинский прямо писал о том, что «благо, отыскиваемое искусством, не есть благо человека» [3, стр. 140].
Макс Вебер, немецкий социолог: «Мы знаем также, что прекрасное может не быть добрым и даже что оно прекрасно именно потому, что недобро… И уж ходячей мудростью является то, что истинное может не быть прекрасным и что нечто истинно лишь постольку, поскольку оно не прекрасно, не священно и не добро» [3, стр. 141].
Известно, что Лев Толстой резко выступал против искусства, воплощая при этом в самом себе удивительнейшее, трудно объяснимое противоречие философа и художника. В письме к Фету он писал: «Искусство есть ложь, и я уже не могу любить прекрасную ложь» [9, стр. 342]. В другом месте он поясняет свою позицию более подробно: «Понятие красоты не только не совпадает с добром, но, скорее, противоположно ему, так как добро большей частью совпадает с победой над пристрастиями, красота же есть основание всех наших пристрастий» [1, стр. 709]. Но почему пристрастие – это непременно зло? и что такое есть человек без пристрастий? И вот ещё о несовпадении красоты с добром и правдой: «Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь, а не слышишь глупости, а слышишь умное. Она говорит, делает гадости, а ты видишь что-то милое» (там же, стр. 708). Замечание это очень тонкое и верное, но что же нам делать с очарованием женщины и чарами искусства? Не замечать ни того, ни другого? – но станем ли мы от этого лучше?
Можно привести ещё много высказываний представителей обеих групп философов. Удивительно, что почти с каждым из таких высказываний, взятым отдельно, придётся согласиться, но любое из них – увы! – не будет вмещать всей истины об искусстве. Пусть не смущает нас неопределённость ответа на поставленный вопрос – несут ли искусство и красота добро и истину? Неопределённость неизбежна при оценке сложных, многогранных и противоречивых явлений, к каким относится искусство. Лучше видеть и понимать всю неоднозначность этого явления и мириться с нею, чем пытаться давать ему вполне определённую, но при этом неизбежно ограниченную и неполную оценку.
Доводы в пользу более широкого взгляда на искусство, взгляда, избегающего подчинения искусства этике и прямого сопоставления его с добром или злом, правдой или ложью, можно найти, в частности, в монографии Игоря Гарина [3, стр. 139-147]. Автор приводит много цитат в защиту такого взгляда; ограничимся здесь только одной, которая кажется мне наиболее точной, – из Марины Цветаевой: «…Если хочешь служить Богу или людям, вообще хочешь служить, делать дело добра, поступай в Армию Спасения или ещё куда-нибудь – и брось стихи» (стр. 140).
О цели искусства
Итак, добро и конкретные блага вряд ли можно однозначно считать конечной целью искусства. Значит ли это, что искусство вообще не преследует никаких целей – ни этических, ни гносеологических, а положительный эффект его воздействия на человека достигается спонтанно, как бы сам собою?
Быть может, мы придём к какой-то версии ответа на этот важный вопрос, если найдём некую общность в целях искусства и науки (единство всех проявлений человеческого духа хорошо ощущалось ещё древними). Однако и наука, и искусство, и сама вечно ускользающая от них истина (научная или художественная) выглядят вполне самодостаточными и не призванными ни к какому служению. Поэтому на первый взгляд кажется, что даже объявленная общей, цель науки и искусства всё равно останется для нас таинственно фантомной, – если мы не поймём, зачем нужна их непрерывная погоня за истиной.
Попробуем начать с рассмотрения тех более простых и достаточно внятных целей, которые обычно ставят перед собой сами художники и учёные. Энциклопедии часто трактуют цель как «мысленно предвосхищаемый результат деятельности». В духе этого определения у творцов искусства и у деятелей науки могут быть одни и те же, но притом самые разнообразные цели – от практически-приземлённых до очень возвышенных. Начиная свою работу, художник или учёный может «мысленно предвосхищать», что когда-нибудь он извлечёт из неё материальную выгоду и улучшит, тем самым, свою жизнь; что удивит этой работой учеников или последователей и, возможно, посрамит конкурентов, критиков и оппонентов; что, вызвав восхищение публики или научного мира, «скажет новое слово» или даже «откроет новую страницу» и «прославит своё имя в веках». Кроме того, (согласно Вашему наблюдению) творческий человек «способен писать «в корзину», то есть создавать вещи, заранее обречённые на финансовый или конъюнктурный неуспех». Целью трудов такого подвижника становится само творчество, оно позволяет ему выразить и реализовать себя, оно доставляет ему высшее наслаждение, оно само служит ему наградой.
Это всё цели достаточно ясно осознаваемые. Но задумаемся: разве только такие, вполне достойные и по-человечески понятные, личные мотивы направляют творческую деятельность художников и учёных, этих самых ярких выразителей человеческого духа? К чему же ещё так неудержимо стремятся они, что заставляет их безоглядно отдавать творчеству не просто труд, но все свои способности и помыслы, всю свою душу? Может быть, мысль о благе человечества? – возможно в какой-то степени это и так, но ведь каждый человек может посчитать вкладом в общее благо любой свой труд – не только творческий; однако же ни в каких иных сферах человеческой деятельности не наблюдается такой фантастической самоотдачи!
Вероятно только какое-то фундаментальное, космическое побудительное начало способно заставить деятелей науки и искусства (и религии) безоглядно и безостановочно преследовать жар-птицу истины. Следует предположить, что эта первичная движущая сила очень глубоко связана с глобальным предназначением человека, с его местом в системе мироздания.
Если бы латентную цель научной, художественной и религиозной деятельности можно было выразить одним только словом, то, повидимому, таким словом могло быть «развитие».
На первый взгляд, непонятно, почему устремления учёного, художника или пророка могут иметь своей целью развитие как таковое – слишком абстрактной кажется эта цель. И сейчас же возникают новые вопросы: развитие – чего? и во имя чего? (Ведь, например, разработка бактериологического оружия, создание светской либо религиозной ксенофобской литературы тоже могут рассматриваться некоторыми людьми как развитие, достигнутое благодаря науке, искусству и религии.)
Итак, поговорим о развитии. Развитие свойственно всем без исключения материальным системам – от галактики до живой клетки. Воплощая в себе одну из самых интригующих тайн природы, оно является наиболее общим свойством материи и духа. В каком-то смысле можно было бы даже сказать, что развитие, само по себе, способно выполнять в природе роль Бога: если бы Бог выразил свою творческую волю лишь в одном – в начальном импульсе к всеобщему развитию, то, следуя законам причинности, вселенная, возможно, пришла бы именно к тому виду, какой она имеет (или – если учесть вероятностный фактор – к какому-то иному; это не так важно). Таким образом, логика вполне позволяет нам считать развитие необходимой и самодостаточной, начальной и конечной, целью творения.
Если же говорить, в частности, о роде человеческом, то можно заметить, что весь ход его истории сопровождается неуклонным и ничем не остановимым стремлением человека к самовыражению и саморазвитию. Это стремление, очень часто самим человеком плохо понимаемое, выражает волю истории, оно является пружиной, приводящей в действие все проявления человеческого духа.
Мало, однако, заявить, что всё должно служить исторической цели – разностороннему развитию человека. Только ясное осознание самой сущности этой общечеловеческой цели может помочь нам в выработке, в том числе, и критериев истинности науки, религии, искусства. Дело, в конечном счёте, не в них самих, а в том, способны ли мы ответить на вечный вопрос сфинкса истории – куда должно идти человечество? Сегодня нельзя продолжать в страхе отворачиваться от его загадочного лица – всё сводится к тому, что пора дать ответ, – тогда многое решится само собой. И только исходя из этого общечеловеческого ответа можно пытаться понять истинный смысл каждого отдельного акта человеческого духа – научного открытия, произведения искусства, религиозного призыва.
Мы пока не знаем точно, в чём конкретно должна выражаться интегральная цель человечества, это так называемое «общее благо». Возможно в будущем его удастся определить в терминах «абсолютной морали» (см., например, [10]) или в чём-то ином, что мы сейчас даже вообразить себе не можем. Сегодня достаточно хотя бы понимания того, что это благо обязательно должно быть общечеловеческим. Степень осознания такой необходимости тем или иным современным обществом как раз и определяет его роль и место в потоке истории и служит мерой его продвижения по пути прогрессивного развития.
Исходя из взгляда на развитие как на самодовлеющую доминанту природы и человеческого духа, можно предложить для искусства такой достаточно очевидный критерий истинности: искусство является таковым лишь в той мере, в какой оно, используя свои специфические художественные средства, служит цели развития человека до образа и подобия Божьего. (Заметим, что к той же сверхцели – только своими особыми средствами – стремятся и наука и религия.)
Этот критерий нуждается, видимо, в некотором уточнении.
- О цели. Цель движения человека к образу и подобию Божьему не должна обязательно соотноситься с какой-либо религией. Вы можете вместо этой цели или вместе с нею указать «абсолютную мораль», «благоговение перед жизнью», «всеобщую любовь», «всемирное братство». Вы можете сформулировать любую подобную цель, лишь бы она подразумевала единство человеческого рода в его развитии, его духовном устремлении к Высшему, осеняющему в равной степени всех живущих. Трудно, правда, избежать упрёка в расплывчатости целей такого рода, но есть надежда, что они способны конкретизироваться и углубляться.
Художники и искусствоведы часто не могут быть вполне уверены в том, действительно ли то или иное произведение искусства направлено к такого рода благой цели, – людям, как давно подмечено, «не дано предугадать». Но, к счастью, гораздо легче – на основе собственного внутреннего ощущения – безошибочно распознать то, что уж точно движением к образу и подобию Бога не является. Ощущение это подобно совести – её трудно определить в конкретных терминах, но все в общих чертах прекрасно понимают, что это такое. Совесть художника помогает ему избежать извращения цели творчества – точно так же, как совесть любого человека способна удерживать его от дурных поступков. Следование художественной совести и есть то, что называют честностью художника.
Всё это не значит, конечно, что художник каждое своё движение, каждый творческий шаг должен непременно соотносить с общим назначением искусства и непрерывно помнить о его благородной цели. Нет, понимание высокой цели должно органично жить в сердце художника, составляя саму внутреннюю сущность его личности, – этого достаточно.
- О художественных средствах. Определения соответствия произведения искусства провозглашённой общей цели искусства в принципе достаточно для того, чтобы ответить на вопрос «что такое искусство» (то есть чтобы в каждом конкретном случае отличать искусство от не-искусства). Очень важно, однако, подчеркнуть, что цель в искусстве достигается только художественными средствами – только тем особенным, что составляет специфический метод искусства. Именно эти средства (а не цель) выделяют искусство из ряда других проявлений человеческого духа. Понятно, что средства искусства настолько многочисленны и разнообразны, что нет ни возможности, ни необходимости вмещать их перечисление в какую-либо формулу. Нам говорить о них стоит лишь в той мере, в какой они касаются философии искусства.
Согласование цели со средствами её достижения всегда было острейшей проблемой в любой сфере деятельности, где у человека есть выбор, – в экономике, политике, религии и, конечно, в искусстве. Если следовать предложенному выше критерию, то окажется, что искусство перестаёт быть искусством в двух случаях: когда художник не стремится, сердцем своим, к цели развития человека или когда он использует негодные, не свойственные искусству средства.
- О мере соответствия требованиям искусства. Оценивать произведения искусства можно, в предельном случае, по двоичной системе: да – это искусство; нет – это не искусство. Но в нашем мире нет ничего идеального, и только творения общепризнанных мастеров – таких, как Дюрер, Бетховен, Пушкин, – могут безусловно соответствовать всем самым строгим требованиям к цели и средствам искусства (хотя дотошный исследователь, возможно, найдёт изъяны у любого гения). С другой стороны, признать безусловно не-искусством можно только работы совсем уж очевидных не-художников или явных служителей дьявола, преследующих негуманные цели. Категоричности оценок искусства препятствует и то, что они должны быть проверены временем; только цензура веков способна придать им подлинную объективность.
С учётом этого, в предложенный выше критерий введена оговорка «в той мере, в какой…»: она отражает возможную (и даже неизбежную) неполноту достижения поставленной художником цели или не полное совершенство используемых им средств. Что-то художнику удаётся, в чём-то он может потерпеть неудачу – стопроцентный успех не гарантирован, как мы знаем, даже Богу в его творении (об этом шла речь, когда мы размышляли о стремлении к совершенству). Работа художника должна признаваться искусством в той мере, в какой он достиг высокой цели искусства и в какой он использовал для этого адекватные художественные средства. В какой-то степени за результат его работы отвечает Бог, одаривший художника той или иной мерой таланта, а в какой-то степени – сам художник, так или иначе свой талант употребивший.
Кому адресовано искусство?
Продолжим начатый нами разговор о цели искусства, сосредоточившись на другом аспекте проблемы: кому художник адресует создаваемое им произведение? Наиболее очевидный ответ: «всем, до востребования». Но вот Вы приводите замечательный пример: художественная традиция культур Индии или Китая включает в качестве средства выражения для живописи и каллиграфии песок или даже… воду. Очевидно, что такое заведомо не запечатлеваемое искусство выражается, как Вы указывете, «не только языком воплощённого образа, но в неменьшей степени – движением, действием, как это делает и молящийся человек». Другой Ваш пример: «В процессе реконструкции готических соборов были обнаружены фрески, вмурованные в стены, то есть намеренно созданные для того, чтобы быть невидимыми глазу человеческому». В обоих этих случаях художники обращаются не к людям, а к Богу; действительно, совершается некий ритуал – разновидность молитвы или продолжение её. С равным основанием мы могли бы сказать, что художник обращается здесь к самому себе. Но искусство ли это?
Вы отвечаете на этот вопрос положительно: «Искусство не обязано адресоваться к «миру», как не обязано и отворачиваться от него. Есть мир или нет мира – искусство останется искусством. А мир, конечно, останется миром: с искусством или без».
Итак, можно сказать, что запечатлённое лишь на мгновение или не видимое миру творение, оставшись «искусством в себе», является, независимо от его адресации, искусством. Я хотел бы привести дополнительный аргумент в пользу данного тезиса. Согласно предложенному в предыдущем разделе критерию, искусство является искусством в той мере, в какой оно отвечает цели позитивного развития человека. Творения, рассмотренные в приведенных выше примерах, этому критерию соответствуют, так как они действительно служат цели развития – пусть даже лишь одного человека – самого художника.
Чтобы завершить обсуждение вопроса, рассмотрим предельный случай «искусства в себе» несколько подробнее. Представим, что некий человек – художник или не-художник, – не совершая никаких действий, только переживает в своей душе рождающиеся в ней образы, которые могли бы потенциально воплотиться в произведение искусства. Он видит, чувствует, переживает то же самое, что и художник в момент творчества, но он только мыслит, не совершая ни одного физического движения, он не воздействует на окружающий материальный мир за порогом своего сознания. Где же тогда начинается искусство? – обязательно ли как-то выразить образ, или достаточно только осознать, проникнуться, пережить?..
Обратимся снова к предложенному критерию. Можно согласиться, что впечатления почти-автора служат цели его саморазвития, но он не использует никаких «специфических художественных средств», которые, согласно нашему критерию, соответствовали бы ей. Человек этот испытывает некое «томление духа», но он ничего и никак не создаёт и не выражает. Его переживания, сами по себе, искусством не являются. Искусство – хотя бы и безадресное – обязательно нуждается в каком-то материальном выражении. Неспетая песня – ещё не песня.
Триада познания
Вопрос о развитии как цели искусства может быть поставлен и по-другому, в более широком аспекте: как вообще искусство соотносится с двумя другими формами познания мира человеком – с наукой и религией?
Попробуем сначала сформулировать ответ в самом общем виде.
Наука, используя всё более совершеннные рациональные методы познания, достигает совершенно реальных целей и постепенно приближается к истине, которая, однако, в её абсолютном выражении остаётся для человечества недоступной.
Религия с помощью мистических средств (жертвоприношений, обрядов, молитв, медитации) стремится к мистической цели (приближению человека к Богу), никогда этой цели не достигая полностью – как в душе отдельного человека, так и, тем более, для всего человечества.
Искусство же, сочетая вполне рациональные средства обращения к разуму человека с мистическими, иррациональными способами воздействия на его эмоции, его «сердце», безгранично и разнообразно расширяет представления человека о мире, самом себе и Боге. Тем самым, искусство, не имея особенных, только ему присущих, целей и собственных каналов воздействия на человека, «неосознанно» способствует целям науки и религии. При этом оно оказывается если не самым мощным, то самым всеохватывающим, самым широким – по эффективности воздействия на душу человека – гносеологическим инструментом. Итак, место искусства – не выше или ниже науки или религии, не впереди или сзади них, а всегда рядом с ними, точнее – между ними, и обязательно – вместе с ними.
Попытаемся поговорить о соотношении науки, религии и искусства более подробно, касаясь тех аспектов темы, которые представляются наиболее общими и самыми важными.
- Наука, раскрывая ранее скрытое, всегда знает и может объяснить, как она это в каждом конкретном случае делает и почему полученный ею результат является единственно возможным и правильным (для данного, доступного ей сейчас, уровня развития). Если же наука этот результат сама объяснить и обосновать не может, то она уже и не будет наукой, а будет озарением и догадкой, то есть не чем иным, как своего рода искусством. В своей обычной, повседневной деятельности любая наука безусловно должна пользоваться рациональными, воспроизводимыми и взаимопроверяемыми методами. Как только она пытается от этого ограничения хотя бы частично отказаться и апеллировать к мистике, она превращается в не-науку, или, если хотите, в лженауку.
Однако эти кажущиеся очевидными и давно известные правила науки нуждаются в некотором уточнении. Наука не может развиваться, не заглядывая в неизвестное, не выдвигая гипотез. И вот в этом движении огромную роль играет, как уже неоднократно отмечалось, способность учёного мыслить иррационально, давать волю своему воображению, интуиции, догадке, даже следовать фантазиям, которые нашёптывает ему подсознание, аккумулировавшее в себе весь предыдущий интеллектуально-эстетический опыт учёного.
Здесь нельзя не напомнить о двух замечательных работах Геннадия Горелика [11, 12], в которых данная особенность авангардного научного мышления освещается очень подробно.
Рядовой учёный может ограничиться рациональными методами и строго следовать только имеющимся фактам, но выдающемуся учёному, тем более гению науки не обойтись без художественного мышления, позволяющего предугадать неочевидное, увидеть невидимое и совершить, тем самым, прорыв в неизвестное. Как раз такого рода мышлением и обладают творцы произведений искусства. Используемые ими подсознательные творческие импульсы, провоцирующие их работу в искусстве, свойственны, повидимому, и авторам подлинно выдающихся научных открытий.
Существует, однако, мнение, что в некоторых областях человеческой деятельности, в частности, в политике, способность к художественному мышлению оказывается не только ненужной, но и чрезвычайно опасной. Вот, в частности, И.Авербах отмечает: «В истории хорошо известно трагическое явление, когда некоторые личности, порой весьма талантливые, не сумев по разным причинам осуществить в молодости свои художественные идеи, потом пытались реализовать их в политике. Это обычно кончалось несчастьем для этих талантливых личностей, но, прежде всего – для людей, которые становились объектами их художественно-политических экспериментов» [13, стр. 57]. Приведенные автором зловещие примеры – драматурга Нерона, художника Гитлера, поэтов Сталина и Мао Цзэдуна – достаточно характерны, но следует ли обобщать эти примеры? Разве в том, что данные люди были злодеями, виновато художественное мышление как таковое? И разве из того, что некоторые политические злодеи были неудавшимися художниками, следует, что никакой художник не может быть удачливым и прогрессивным политиком?
Образное, художественное мышление всегда помогает разуму, способствует любой научной или иной деятельности; другое дело – на что именно человек свои способности употребляет.
- Религия способна познать истину и сама является истинной лишь пока и поскольку она служит цели развития человека до образа и подобия Божьего. Выдвижение на первый план иных целей (это может быть, например, попытка самодовлеющего самоутверждения) сразу лишает религию всех её гносеологических преимуществ, она, по существу, перестаёт быть нужной человеку, а следовательно, – и Богу.
Все религии основаны прежде всего на иррациональной вере и мистических откровениях, но часто они апеллируют, кроме того, и к разуму. «Мудрец лучше пророка», – провозглашает Талмуд (Бава батра, 12) [14, стр. 364]. Самый ценный дар Бога царю Соломону – это мудрость: «Вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное… Премудрость и знание даётся тебе…» (3-я Царств, 3:12; 2-я Паралипоменон, 1:12). Принимая этот дар, Соломон завещает его своему сыну: «Главное – мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени её, и она возвысит тебя…» (Притчи, 4:7,8) [15]. К мудрости призывает иногда и Евангелие: «…Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Матфея, 10:16) [15]. В Коране я, однако, не нашёл прямых воззваний к мудрости и разуму человека – всё это принадлежит только Аллаху, и только Он – источник истины: «И видят те, которым даровано знание, что ниспосланное тебе от твоего Господа – это есть истина…» (34:6) [16].
В то же время, кажется все религии считают пути и доводы разума сомнительными, ненадёжными, часто опасными. «Грейся у огня мудрецов, но опасайся раскалённых углей, чтобы не обжечься», – предупреждает один из иудаистских трактатов (Пиркей авот, 2) [14, стр. 181]. Даже сами мудрецы и пророки часто признают бессилие разума: «Можешь ли ты исследованием найти Бога?», – сомневается один из них (Иов, 11:7); «Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть; вот они отвергли слово Господне; в чём же мудрость их?», – вопрошает другой (Иеремия, 8:9). И совсем уж решительно утверждается: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой» (Притчи, 3:5). Христианство ещё более усиливает мотивы недоверия к разуму, резко противопоставляя его вере: «И слово моё и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей», – провозглашает апостол Павел (1-е послание к Коринфянам, 2:4,5) [15]. И грозно предостерегает Коран: «Бойтесь Меня, обладатели рассудков! (2:193); Берегитесь многих мыслей! (49:12)» [16].
Совершенно особую позицию в отношении к разуму и вере занимает буддизм. John Bowker приводит следующие слова Будды: «Не принимайте на веру то, что я говорю, просто старайтесь вникнуть в мои слова, чтобы увидеть, действительно ли то, что я говорю, имеет смысл. Если в моих словах смысла нет, отбросьте их. Если смысл есть, возьмите сказанное на вооружение» [17, стр. 10]. Между прочим, одного этого высказывания, утверждающего примат личного разума над коллективной верой, достаточно, чтобы понять, что буддизм, в сущности, не может считаться религией.
- Искусство как художественный способ восприятия мира в гносеологическом смысле универ-сально: оно способно непосредственно поддерживать и разум и веру.
Выше мы говорили о благотворном влиянии художественного, образного мышления на деятельность учёного. Однако, пробуждая в человеке особое видение мира, возбуждая в нём какие-то ещё до конца не понятные нам самим чувства, искусство незаметно развивает, обогащает каждого, кто с ним соприкасается. Об этом много было сказано, ограничимся лишь точными словами Петра Кропоткина: «…Созерцание художественной красоты и художественное творчество помогают человеку подняться до того, что он понемногу заглушает в себе голоса животного инстинкта, и тем открывает путь велению разума и любви к человечеству» [18, стр.179].
Но искусство ведёт нас по дороге познания своими особыми путями. «Поэт – если только он хочет быть настоящим поэтом – должен творить мифы, а не рассуждения», – утверждал Платон [1, стр. 533]. Все эти мифы искусства, этот созданный художниками ирреальный мир как нельзя лучше соответствуют мистическим откровениям религиозных пророков. На протяжении веков искусство воспроизводило, расцвечивало и обогащало религиозные представления людей, пробуждая в них чувства восхищения Создателем и преклонения перед красотой творения. Ощущение красоты в искусстве сродни религиозному экстазу, мировосприятие художника очень близко к религиозному чувству, а отрешённость и самоуглублённость творцов искусства в какой-то мере аналогичны стремлению глубоко верующих людей отгородиться от мира, сосредоточившись исключительно на своей вере. Религиозные аспекты искусства часто подчёркивались и самими художниками. Андрей Белый, например, полагал, что образцы жизни, претворённые в искусстве, могут найти дорогу в мир только религиозным путём, что искусство может быть только религиозным, иначе оно вообще не имеет смысла [9, стр. 45].
Этому можно противопоставить гораздо более объёмный взгляд Бердяева. С одной стороны, он утверждает: «Мертвенна и лжива всякая реставрация старого религиозного искусства. Религиозная тенденция в искусстве такая же смерть искусству, как и тенденция общественная и моральная. Художественное творчество не может и не должно быть специфически и намеренно религиозным». И он же усматривает связь самой сущности искусства с религией: «…Последние глубины всякого подлинного искусства – религиозны. Искусство религиозно в глубине самого художественного творческого акта» [6, стр. 218].
Истории известны только две религии – иудаизм и ислам, которые обошлись без услуг изобразительного искусства, запретив изображать не только Бога, но – в своей бескомпромиссной борьбе с идолопоклонством – и всё, что создано Богом. Эти религии всецело положились на способность человека верить в абсолютно абстрактное Начало мироздания. Многовековый опыт доказывает, что люди действительно на это способны, но вместе с тем оказалось, что они не могут совершенно отказаться от искусства, от подражания в нём Творцу. Нереализованная художественная энергия иудеев и мусульман нашла выход в создании утончённых украшений, затейливой каллиграфии, сложнейших орнаментов и мозаики, уникальной архитектуры.
Для полноты картины завершим наш небольшой обзор взглядов на соотношение искусства и религии оригинальной, но спорной мыслью Эжена Ионеско: «Искусство не имеет никакой цели, но человек неверующий может заменить веру искусством».
Итак, искусство поддерживает, оживляет и обновляет и разум и веру. Но, с другой стороны, оно подрывает власть разума и монополию веры, разъедая их своим скепсисом, своей «несерьёзностью», своим вечным поиском особых ответов на вызовы бытия. Искусство – хотя бы на время соприкосновения с ним – освобождает человека от цепей науки и тенёт религии. (Возможно прав был Ницше, говоря, что «искусство нам дано, чтобы не умереть от истины» [1, стр. 455].) Искусство не позволяет ни разуму, ни вере слишком возвыситься над человеческой личностью и подавить её своим грозным величием. Ограничивая влияние этих мощнейших сил и одновременно питаясь ими, искусство образует нейтральную третью силу, особый, ни на что не похожий мир, действующий только по своим собственным внутренним законам.
Если наука ищет относительную, внешнюю по отношению к себе истину, то искусство само есть непререкаемая истина, которую бессмысленно оспаривать. Художник всегда прав, и никто – даже другой художник – не может его опровергнуть. Истина искусства, как Вы однажды написали, – это «истина в последней инстанции». Произведения искусства, в отличие от достижений науки, не взаимопроверяемы, они могут только дополнять друг друга. Представим, например, портреты одного и того же человека, написанные разными художниками, – они окажутся, конечно, различными, в них отразятся как разные стороны личности данного человека, так и личности самих художников. Нам неизбежно придётся признать каждый из этих портретов в своём роде конечной истиной. И разве не удивительно, что совокупность нескольких таких портретов порой может сказать о человеке больше, чем его фотографии, хотя первые совершенно субъективны, а вторые отражают объективную, вполне научную реальность?
Отвечая таким образом на вопрос «что есть истина?» (или, точнее, изящно избегая лобового столкновения с ним), искусство пытается преодолеть вечное противоречие между двумя ипостасями человеческого духа – разумом (рациональным познанием) и верой (мистическим откровением). Именно это противоречие определило весь драматизм истории и – в конечном счёте – всё духовное развитие человечества. Как образно выразился папа Иоанн Павел II, «вера и разум подобны двум крылам, на которых дух человеческий возносится к созерцанию истины» [19].
Продолжая этот образ взлетающего человеческого духа, спросим себя: не является ли искусство тем «сердцем», которое на первый взгляд не так явно определяет возможность полёта, как крылья, но без которого всё же никуда не улетишь? Быть может, непрерывное биение этого сердца задаёт ритм взмахам крыльев? И, может быть, оно, это сердце, придаёт устойчивость вознесению духа человеческого, не давая ему завалиться ни на одно из крыльев, потеряв опору на разум или на веру? Ужасная катастрофа, возможно, могла бы постигнуть человечество, если бы одна из этих двух составляющих его духовной жизни начала полностью преобладать над другою. Искусство поддерживает равновесие человеческого духа в вечных его колебаниях между неумолимым научным знанием и уводящей в мистику религиозной тайной. К тому же искусство так привлекательно, так оживляет рационально-мистическое человеческое бытие – без него наша жизнь была бы слишком серой.
Наука и религия дают нам свободу только через осознание научной (причинно-следственной) необходимости и религиозной (моральной) ответственности. Искусство же делает это непосредственно – оно постоянно напоминает человеку о свободе выбора, без которой невозможен полёт человеческого духа. Если бы мы воспринимали мир только рационально, мы превратились бы в роботов; если бы нас, как некогда Авраама, вела только безграничная вера, мы стали бы ангелами. Искусство, этот фантастический сон нашей души, уводит нас иногда от беспощадного света разума и отклоняет от беспредельности слепой веры, позволяя оставаться свободными людьми…
Искусство – конденсатор конфликтов
История искусства – это одновременно история накапливания и разрешения конфликтов внутри человека и общества. Конфликт, отражающий, прежде всего, несовершенство человека, является двигателем, побудительной силой искусства – о чём оно могло бы с нами говорить, если бы не существовало слабостей и пороков человека, если бы в человеке и обществе не было противоречий? Беспроблемное, бесконфликтное искусство (мечта критиков советской эпохи), кажется, и в раю невозможно: ангелы могут бесконечно славить Бога, но беспокоить их могли бы только проблемы людей. Именно «беспокойство» и «конфликт» суть те ключевые слова, которые определяют мотив всякого порыва художника к творчеству; вероятно, одного только осознания совершенства природы для этого недостаточно. Очень трудно представить себе чисто созерцательное искусство, не отражающее противоречий действительности и не требующее ответной реакции, волнения зрителя, слушателя. На первый взгляд может показаться, что ближе всего к созерцательности музыка. Но, конечно, и в ней проявляется снедающее творца беспокойство, конфликт автора с самим собой, с миром, Богом, судьбой. Просто способы выражения всего этого в музыке не так очевидны и наглядны, как, например, в литературе или живописи. Но конфликт есть даже в звучании двух соседних нот.
Искусство, подобно конденсатору, сначала заряжается потенциальной энергией конфликтов (тем более высокой, чем выше напряжение в самом обществе), а затем разряжается, отдавая обществу накопленную энергию и заставляя его иной раз содрогнуться. Как конденсатор, искусство способно долго хранить полученную энергию, поэтому возможен как бы отложенный разряд искусства, когда его действие проявляется не сразу, а в более или менее отдалённом будущем. (Таким «отложенным» – по разным причинам – было воздействие произведений Сервантеса или Булгакова, многих художников и композиторов.) Иногда «разряд искусства», как и конденсатора, может быть колебательным – тогда накопленная искусством энергия действует многократно, постепенно затухая и проявляя себя в различные периоды времени с разной силой и разным знаком. В результате искусство, конфликтное в самой своей сущности, снижает – хотя бы частично – напряжённость самого общества. Если же вообще нет никакого процесса заряда-разряда, если общество совсем не ощущает «разрядных токов» искусства, то, значит, мы имеем дело с неким «искусством в себе», творчеством, замкнутым только на автора (возможно и такое).
Наука тоже является воплощением конфликтов – между незнанием и знанием, между старым знанием и новым, укоренившейся теорией и юной гипотезой. Конфликты всегда существовали и в религии (самый неразрешимый из них – в недостижимости Бога вечно стремящимся к Нему человеком). Внутренний конфликт искусства, интегрирующий все противоречия науки, религии и жизни вообще, сводится, в конечном счёте, к одному – к вечному и всеобъемлющему конфликту человечества с временем, к конфликту уходящего прошлого с переживаемым настоящим и надвигающимся будущим. Любое произведение искусства создаётся в виду этих трёх временных координат. Но лишь немногим гениям дано угадать и воплотить в своём творчестве каждую из них – и непрерывно прирастающий опыт прошлого, и насущные заботы настоящего, и смутно угадываемые контуры будущего. Это и есть то, что можно назвать великим искусством.
Искусство – это вещие сны, вскрывающие все тайные, подспудные конфликты нашего коллективного бессознательного. Именно искусство, и только оно, открывает нам то, что не под силу науке (из-за строгости её методов) и религии (из-за жёсткости её канонов). Там, где бессильны Фрейд, Адлер и Фромм, где не могут дать ответа даже поучения пророков, там открывают истину Данте и Шекспир, Пушкин и Достоевский – и не только эти великие, но и тысячи других творцов искусства. Вот, для примера, лишь один старинный вопрос: возможно ли оправдание зла? Если зло причинено неосознанно, то незнание может быть если не оправданием, то хотя бы объяснимой причиной зла. Но что движет человеком, причинившим зло вполне сознательно, хотя и вопреки правильно понимаемому им долгу, вопреки нравственным нормам, хорошо ему известным? Здесь словно бы сам дьявол толкает человека под руку и ведёт его путями, противными его собственной совести. Анализ такого рода ситуаций пока под силу только искусству. Инструменты искусства совершенно особенны, не заменимы никакими другими.
Правда жизни или новая реальность?
Теперь поговорим более конкретно о том, каким образом искусство решает свои задачи.
Существует мнение, что искусство, прежде всего, воспроизводит, отображает «правду жизни». Примерно в таком ключе высказался однажды и Владимир Набоков: «…То, что у нас зовётся искусством, в сущности, не что иное, как живописная правда жизни; нужно уметь её улавливать, вот и всё» [8, стр. 152]. Конечно, было бы упрощением усматривать здесь прямое сходство с примитивно-марксистским взглядом на искусство как способ отражения жизни. С мыслью Набокова можно было бы согласиться, поскольку там понятию «правда жизни» предшествует определение «живописная», а в нём, должно быть, и заключается то очень многое, что присуще только искусству. Нельзя, кажется, принять лишь концовку набоковской фразы, это его «вот и всё», потому что как раз «улавливанием» дело в искусстве вовсе не кончается, с него оно только начинается, и «всё» на самом деле обстоит гораздо сложнее. (Надо полагать, Набоков прекрасно это понимал, только в контексте цитируемего эссе не стал о том говорить.)
Противоположной крайностью можно считать мнение Жоржа Батая, полагавшего, что поэтическая мысль вообще не соотнесена с миром вещей и отражает лишь себя самоё [9, стр. 36]. Андрей Белый утверждал, что, создавая произведения искусства, художник не просто отображает действительность, но творит новую, «символическую реальность» – такую, какой она «должна быть» (там же, стр. 45). Впрочем, об этом говорилось и задолго до символистов; вот, например, очень интересное замечание Плотина, древнегреческого философа III века: «Настоящий художник восходит к логосам, так что многое является продуктом его собтвенного воображения, и он сообщает красоту тому, что лишено её в природе. Так, статуя прекрасна не потому, что воспроизводит черты оригиналов, но благодаря форме, которую ей сообщило искусство, и Фидий изваял Зевса, не имея перед глазами оригинала, таким, каким он (Зевс) был бы, если бы ему явился» [1, стр. 540].
Примерно так же определяет задачу искусства и Мартин Хайдеггер – он полагал, что искусство не изображает конкретную вещь, а показывает её суть, не отображает прекрасное, а порождает его [9, стр. 386]. Очень точно и предельно кратко выразил это швейцарский художник Пауль Клее: «Искусство не изображает видимое, но делает его видимым».
Предметом искусства может служить, конечно, всё, что угодно, но особенно яркого, непревзойдённого эффекта искусство достигает, когда оно, пытаясь выразить невыразимое, прикасается к тому, что с большими трудностями поддаётся изучению с помощью науки. На наличие такого рода объектов указывали многие, в частности, – немецкий философ Макс Шелер: «Существует вид познания, предметы которого закрыты от разума… Существуют ценности, которые конкретный человек чувствует, и те, которые он чувствовать не может» [9, стр. 413]. Думается, в раскрытии именно такого рода «предметов и ценностей» искусство незаменимо. «Только искусство позволяет нам сказать даже то, чего мы не знаем», – это высказывание Габриэля Лауба может служить формулой, раскрывающей преимущество искусства перед наукой. В качестве её подтверждения приведём шутливое, но если разобраться, – очень глубокое замечание Оскара Уайльда: «Лондонские туманы не существовали, пока их не открыло искусство».
Таким образом, творя свою новую реальность, искусство как раз и раскрывает тем самым правду жизни. Оно решает задачи постижения истины, познавая не столько материальную природу вещей и явлений (хотя и её тоже), сколько духовную их сущность. Задача искусства, художественного видения состоит в том, чтобы выявить именно то, что находится «внутри» предмета, что составляет его «душу». (Платон, например, считал, что всякий предмет обладает душой-идеей; в определенном смысле это так и есть.) Чем больше скрытой от нехудожественного взгляда «правды» раскроет нам художник, тем более ценным окажется его искусство и тем больше будет в нём чуда.
Немного о методах искусства
Методы, с помощью которых искусство добивается своих удивительных результатов, во многом ещё остаются загадкой. Наука (гносеология, психология, искусствоведение) чаще всего не способна объяснить, чем конкретно достигается в том или ином случае необычайная эффективность искусства (хотя в других случаях наука трактует методы познания с достаточной точностью). Многое из того, что только искусством достигается, пытаются объяснить вдохновением, поэтическим воображением. Однако воображения не лишены и учёные, но вот не могут же они достичь того, что часто с видимой легкостью даётся поэтам. Иногда можно слышать просто ссылки на «чудо» постижения художником скрытой сути вещей. И такого рода ссылки, кажется, никого, в том числе и «материалистов», не смущают.
Тема художественных средств в искусстве неисчерпаемо огромна, поэтому ограничимся только двумя замечаниями.
- Искусство иногда имеет больше общего с техникой, с техническим конструированием, чем с «чистой наукой». Художник, как и конструктор, создаёт нечто новое из имеющегося в его распоряжении набора элементов. Даже в наиболее абстрактном из искусств – музыке – композитор изначально оперирует ограниченным набором нот, тонов, созвучий, элементарных мелодий. Границу между конструированием и искусством особенно трудно провести в творчестве художников-инсталляторов. То, что по их адресу часто можно слышать восклицания «это не искусство!», только подтверждает неуловимость этой границы.
Однако, в отличие от технического конструирования, искусство никогда не создаётся одним только разумом и никогда не обращается только к разуму человека, но всегда также и к его сердцу, чувствам, ко всей его духовной сущности; оно, как любовь, требует всего человека. Быть может, и поэтому, в частности, воздействие искусства так же трудно объяснить в рациональных терминах, как влияние чувства любви на влюблённого.
Если бы мы могли представить себе некую «шкалу рациональности» искусства, то в начале её оказалась бы симфоническая музыка, которая, вероятно, рациональна менее всего, а в конце – предельно рациональная так называемая «интеллектуальная проза», близкая уже к научному тексту. И чем ближе к началу этой шкалы расположен тот или иной жанр, тем менее применимы к нему были бы методы рационального научного анализа.
Если говорить в целом, то художник, в аспекте гносеологии, оказывается гораздо ближе к религиозному мистику, пророку, чем к учёному, с его рациональными инструментами познания.
- Искусство несомненно владеет какими-то особо точными, тончайшими инструментами, которыми оно способно проникать в человеческие души так изощрённо, так беспредельно глубоко, как не смогли проникнуть ни психология, ни антропология, как вряд ли вообще когда-либо сможет наука. Общим местом стало упоминание в этой связи имён Шекспира, Достоевского, Толстого, Пруста, Джойса, но сколько за спинами этих гениев стоит «рядовых» писателей, сделавших свой, пусть не такой заметный, вклад в человековедение. Кто помнит сейчас, например, Фёдора Сологуба, посвятившего несколько страниц полушутливому исследованию различий между негодяем, подлецом и мерзавцем? А ведь это тоже своего рода открытие, на которое никто, кроме художника, не способен!
Хорошо известно также удивительное умение художников слова выделять самых главных людей в мельтешащей пёстрой толпе современников, то есть находить «героя своего времени», указывая тем самым на скрытые тенденции общественного развития, которые становятся такими очевидными после того, как их открыла литература.
Уникальна и присущая искусству способность предвидения. Жорж Батай считал произведения искусства предвестниками тех или иных этапов развития человечества: «Зачастую искажения пластических форм представляют собой главный симптом великих потрясений» [9, стр. 32].
Искусство как преобразование информации
Поговорим теперь о применяемых в искусстве методах преобразования информации.
- Прежде всего, искусство может сообщать открытую им истину путём добавления информации к непосредственному, нехудожественному, «безыскусственному» видению мира.
Вот простое, содержащее 13 слов «пейзажное» сообщение: «Тёмной ночью мчащиеся, вьющиеся по мутному небу тучи скрывают луну, освещающую летящий снег», – здесь заключена некая информация, ценность которой определяется только самим её содержанием и нашей потребностью в ней. Что же такое магическое происходит, когда та же самая информация выражается тоже 13 словами, но по-другому: «Мчатся тучи, вьются тучи, / Невидимкою луна / Освещает снег летучий, / Мутно небо, ночь темна»? Ведь «фактическое» содержание обеих фраз абсолютно одинаково, а воздействуют они на человека, несомненно, по-разному. Во втором случае, благодаря творчеству поэта, информация приобрела дополнительное качество – вы увидели картину тревожной зимней ночи, уловили ритм движения торопящейся тройки, почувствовали настроение путника… В этой добавочной информации и состоит одна из тайн искусства, в ней и заключена истина, раскрываемая искусством.
В отличие от искусства, наука, по самой сущности своей методологии, лишена способности увеличения добываемой ею информации за счёт подбора и особенной расстановки слов, за счёт движений, игры света, магических звучаний – колдовства, к которому обычно прибегает искусство. Научное сообщение содержит ровно столько информации, сколько в нём ясно и недвусмысленно высказано, – и ни грана больше. Сообщаемый же искусством объём информации поистине беспределен: её «окончание» теряется где-то в глубинах подсознания каждого, кто её воспринимает.
Религия в рассматриваемом отношении гораздо ближе к искусству: она тоже рассчитывает на впечатление, производимое звучанием магических формул, ритуальными действиями, заклинаниями, таинствами. Всё это вносит дополнительный, часто очень существенный, вклад в информацию, сообщаемую религией.
- Другая особенность методологии искусства заключается в ограничении общего объёма первоначально доступной информации об объекте, в сжатии её, в отборе из неё только самого важного и существенного.
Даже документальное кино и фотография, которые, кажется, просто фиксируют действительность, могут быть искусством лишь в той степени, в какой они сумеют художественно точно определить время съёмки и ограничить пространство кадра. Сюда очень подходит то, что Гилберт Честертон сказал о живописи: «Искусство – это всегда ограничение. Смысл всякой картины в её рамке». Никакое искусство никогда не может передать полностью всё, что стремится выразить художник, потому что «всё» – это бесконечность, это принципиально неохватный мир деталей, подробностей мыслей и представлений, звуков и движений, света и цвета. Художник всегда вынужден себя ограничивать в своём творчестве, он неизбежно упрощает, сжимает, свёртывает информацию.
Приведём пример, который поможет лучше понять парадокс концентрации информации путём её сокращения.
Американский учёный Митчелл Файгенбаум изучал турбулентность в жидкостях и другие сложные системы, в которых кажущийся хаос может проявляться как некий закономерный процесс. Невозможно – даже с помощью громоздкой системы дифференциальных уравнений, решаемой мощным компьютером, – предсказать поведение таких систем и рассмотреть детали такого рода процессов (к ним относятся, например, процессы образования и изменения облаков). И вот что говорит этот учёный, в чём он видит выход из тупика: «Очевидно, что никому не известны все детали окружающей нас реальности. Но посмотрите на полотна художников! Они осознали, что далеко не всё по-настоящему важно, а затем пригляделись к самым интересным подробностям. Они способны проделать часть моих исследований за меня. Взглянув на ранние работы Ван Гога, можно заметить, что… ему определённо было известно, каково минимальное количество деталей, которые требуется вместить в картину. (…) Между податливыми, мягкими вещами и теми, у которых контуры более определённые, существует некое взаимодействие. Их комбинация так или иначе влечёт за собой верное восприятие. Если обратиться к изображению бурных вод Рейсдалом и Тёрнером, становится понятно, что это можно сделать итерационным способом (то есть путём многократного применения одних и тех же операций – А.М.)» [20, стр. 247].
Так художник интуитивно постигает то, что скрыто от взора учёного, а учёный иногда может найти решение конкретной проблемы, используя методы, применяемые искусством.
- Процесс создания и восприятия произведения искусства можно представить как генерацию художником некой информации (об окружающем мире и собственной личности) с последующим преобразованием, передачей и приёмом этой информации.
Тончайший и сугубо индивидуальный творческий акт рождения произведения искусства, в виде очень грубой схемы, можно представить так. Художник воспринимает доступную ему исходную информацию, аккумулирируя её в своём сознании (часто этот процесс происходит незаметно для него самого, он будто чувствует, что нечто важное рождается в самом его сердце). Далее художник так или иначе переживает в себе свои впечатления и в конце концов каким-то образом трансформирует эту пропущенную «через себя» информацию – так, чтобы наилучшим образом передать людям свои идеи, ощущения, чувства, настроения, своё видение и понимание мира – всё, о чём он думал и что переживал, всю эту познанную им истину искусства. По существу на этом этапе мы имеем дело с кодированием информации – с целью её материализации и наиболее эффективной передачи читателю, слушателю, зрителю.
Напомню несколько указанных в Вашем письме существенных особенностей технологии подготовки творческого акта (так понимать и чувствовать эти особенности может, думаю, только художник, испытавший всё это на себе). Итак: поиск художественной истины начинается путём «приближения к ней окольными путями, в ритме естественной, размеренной спонтанности». Это постепенное движение «необходимо для настройки, для наращивания скорости, для того, чтобы набрал силу процесс выработки энергии распада прежних клише сознанния, то есть для качественного перехода в новые формы мыслительного бытия». (Вот в этом-то и заключается, повидимому, начало процесса кодирования художественной информации!) И, отмечаете Вы, «для каждого процесса (и даже каждой индивидуальности) существует свой ускоритель и своя «разминка», позволяющие наращивать внутреннюю энергию для выхода (информации – А.М.) из пределов уже существующего вида и преобразования (преображения) её в новый вид». Наконец, происходит «разный для каждого случая скачок», сопровождающий «переживание перехода энергии трения в энергию творческого горения». Наступает момент, когда, говоря словами Пушкина, «громада тронулась и рассекает волны», – нужный код художником найден!
Иногда кодирование может быть осознанно нарочитым, может менять первоначальные (воспринятые самим художником) формы до неузнаваемости, может сводить их к знакам и символам – в таком случае мы имеем дело скорее с шифровкой информации; так поступали, в частности, символисты. Однако, по Вашему наблюдению, «в подавляющем большинстве случаев кодирование является неосознанным, и чем гениальней художник, тем меньше видимой связи его творения с примененным способом кодировки, – механизм изготовления доброкачественного изделия не должен оставлять следов на поверхности готового продукта». Другими словами, мастерское кодирование, составляющее суть индивидуального метода работы художника, должно происходить как бы само собой.
Созданный художником образ впоследствии размножается, субъективно отражаясь в зеркалах сознания зрителей, слушателей, читателей. Разные методы и стили искусства отличаются, в первую очередь, той мерой свободы воображения, какую творцы искусства оставляют воспринимающему субъекту. Однако в конечном счёте реальную степень свободы восприятия определяет, конечно, сам этот субъект, а не автор.
Можно ли в таком случае вообще говорить о неточности восприятия художественной информации, то есть о том, что в технике называют искажениями, ошибками, возникающими в процессе передачи информации? Ответ во многом зависит от того, что именно в данном случае мы будем понимать под «ошибкой». Если мы условимся, что она представляют собой разницу между информацией, которую изначально намеревался передать художник, и информацией, которая на самом деле была воспринята субъектом, то нам придётся признать, что разница эта объективно всегда существует, и, следовательно, ошибки – в таком их понимании – просто неизбежны. Но было бы упрощением закончить наш разговор на простой констатации этого факта.
Дело в том, что выявить, обнаружить такие ошибки ни автор, ни воспринимающий субъект принципиально не в состоянии: первый не знает во всех подробностях, как было воспринято его творение, а второй не может знать, что «было на уме» у художника. Как очень метко Вы сказали, «цех кодирования – это не тот пункт, не та фаза, в которой производитель встречается с потребителем». Отсюда следует Ваш вывод, что «в восприятии искусства «ошибок» быть не может», что «зритель всегда прав, как покупатель в торговле; в процессе восприятия он является полным и неограниченным «собственником» произведения искусства». Это можно понять и так, что поскольку часто ошибки восприятия практически не выявляемы, то их, на стадии приёма информации, как бы не существует. Можно также утверждать, что ошибаются все (или – с равным основанием – что не ошибается никто), но всё же все ошибаются (или не ошибаются) по-разному: одни не в состоянии даже приблизиться к авторской истине искусства, другие почти полностью постигают её.
Однако есть ещё другая сторона проблемы ошибок, она связана с вопросом: могут ли они возникать по вине художника, то есть из-за неточности, неадекватности применяемого им метода кодирования, проще говоря, – из-за недостаточного мастерства самого мастера? Вы указывете, что «ошибок также не может быть и у автора-шифровальщика, так как он полный хозяин своих намерений». Но одно дело намерения, и совсем другое – реальное их воплощение: ведь автора может попросту постичь неудача – такая, что мало кто будет способен воспринимать то, что он на самом деле намеревался сказать своим произведением. В этой неточности преобразования информации «внутри» самого художника, в невольном отклонении воплощения от намерения и может состоять ошибка автора, которая неизбежно скажется – иногда роковым образом – на восприятии его произведения кем бы то ни было. Такого рода ошибки нужно считать естественными и неизбежными; иначе нам придётся каждое произведение признавать безупречным – коль скоро автор располагает полной свободой в воплощении своего замысла, в выборе способов кодирования информации. Однако и сам автор иногда понимает, что вот, «не смог, не удалось, ошибся».
С другой стороны, разве художник всегда полностью осознаёт, что именно он хотел передать и что у него в результате получилось? Мы знаем, что нередко произведение искусства существенно «перерастает» своего автора, оно может говорить нам значительно больше, чем первоначально хотел сказать сам автор, – словно невидимый гений или ангел творил вместо автора или вместе с ним. Можем ли мы считать такое отклонение от авторского замысла ошибкой? В том смысле, в каком мы её выше определили, – да; но с точки зрения здравого смысла это не ошибка, а бесценный, хотя и непрошенный подарок муз.
Проблема кодирования-декодирования в искусстве так же сложна и противоречива, как сложны и противоречивы вообще технология искусства и психология творчества.
Наука, в отличие от искусства, не нуждается в специальных способах кодирования при передаче познаваемой информации, она лишь пытается расшифровать тайны бытия. (Кодирование имеет большое значение в технике, но оно используется, в основном, для преобразования и сжатия информации при её передаче на расстояние. Другое дело, что язык науки часто представляет собой тайнопись, не доступную непосвящённым.) Добытая наукой или переданная техническими средствами информация должна воспроизводиться с максимально возможной точностью; здесь, как правило, не может быть места «домысливанию», которое так поощряется искусством.
Религия, в своём воздействии на верующих, применяет различные методы кодирования, и некоторые из них заимствованы у искусства. Использование религиозных символов, исполнение различных обрядов, многократное чтение священных текстов – всё это призвано путём закодированных, символических воздействий вызвать у верующих определённые чувства и ассоциации, обратить их души к более высоким помыслам. Воздействия эти могут быть успешными, если человек, участвующий в религиозном действе, знаком хотя бы в общих чертах с данной системой кодирования, с применяемыми символами. Религиозное воспитание, знание условных кодов необходимы верующим в гораздо большей степени, чем понимание законов искусства необходимо его любителям.
О причинности и свободе
Объяснение эффективности искусства в областях, где бессильна наука, можно усмотреть, в частности, и в том, что в сфере искусства совершенно особым образом проявляет себя принцип причинности.
Наука принципиально не может существовать без выявления причинно-следственных связей (на субатомном уровне эти связи имеют статистическую, а не строго детерминистскую природу, но важно то, что мы, во всяком случае, признаём их наличие и можем их изучать). В науке, если мы что-то действительно знаем, то, как правило, знаем и «почему». В любом продукте научного труда не может быть безосновательных, не имеющих никакой доказательной базы положений – такого рода положения будут сочтены мистическим бредом. Любое суждение – пусть даже оказавшееся впоследствии спорным – учёный обязан обосновать, применяя к нему принцип причинности. Не обусловленное причинностью суждение потребует веры, и, тем самым, оно окажется уже в сфере религии, а не науки.
Однако чем выше уровень организации материи, тем более изощрённо проявляются в ней причинно-следственные связи, тем глубже они спрятаны в кажущийся хаос явлений и тем менее доступны рациональным инструментам исследователя. Надежда однозначно ответить на вопрос «почему» становится всё более призрачной по мере того, как мы приближаемся с этим вопросом ко всё более сложно организованным системам. Это гносеологическое ограничение всегда интуитивно ощущалось учёными, но только в недавнее время предприняты попытки философского его осмысления. Как отметил Джозеф Сейферт (ректор Международной академии философии в Лихтенштейне), «в более высокой сфере индивидуального духа мы имеем дело главным образом со свободной причинностью, с той причинностью, которая осуществляется через свободу воли (выд. – А.М.)» [21, стр. 351].
Таким образом, когда мы говорим, в частности, об искусстве (которое несомненно относится к высочайшим проявлениям «индивидуального духа») нам тоже приходится искать его мотивы в том, что Сейферт назвал «свободной причинностью», проявляющей себя в «свободной воле». Эти термины кажутся удачными, но они, сами по себе, мало что объясняют. Проблема заключается в конкретном механизме проявления этой свободной причинности в душе художника и в том, что именно направляет его свободную волю. Такого рода вопросы возникли у меня и тогда, когда я прочёл Ваши строки о том, что творческий акт начинается с «наращивании внутренней энергии для выхода из пределов уже существующего вида и преобразования (преображения) в новый». Но отчего возникает в художнике этот порыв к творчеству, это стремление «превзойти себя, убить себя», по Вашему выражению? Почему это стремление выливается именно в данную музыкальную фразу, в данную стихотворную строфу, в данный мазок кисти на холсте? Этого, вероятно, никто – в том числе и сам композитор, поэт, художник – объяснить до конца не может. А ведь всё в искусстве зависит, в конечном счёте, именно от этих иррациональных импульсов.
Конечно, и в искусстве существуют системы, школы, образование, обучение мастерству, изучение характерных приёмов и многое другое, вполне поддающееся причинно-следственному анализу. Несомненно, на творцов искусства очень сильно влияют время, окружающая среда и, конечно же, рынок искусства. Все эти факторы помогают понять причины формирования самого мастера, но лишь в малой степени они объясняют рисунок ткани его произведений. Чем дальше сам автор или искусствовед будут продвигаться от общего к частному, к всё более мелким подробностям творческого процесса и к деталям полученного в результате произведения искусства, тем больше причины происхождения этого процесса и появления этих деталей будут ускользать от их понимания. Здесь происходит, возможно, то же самое повышение уровня неопределённости, какое имеет место в физике при переходе от макромира к микромиру.
Во всяком случае, мне кажется, что искусство и, особенно, его «подробности» в гораздо меньшей степени связаны императивами грубой причинности, чем любые другие сферы человеческой деятельности. Искусство меньше зажато в стальные клещи закономерной необходимости, здесь неизмеримо больше остаётся места для пленительной случайности. Конечно, в самом глубинном смысле Вы правы, утверждая обратное: «В искусстве места для случайности не больше, чем в науке; искусство – столь же свобода, сколь и необходимость»; – это так, если учесть, что всё на свете имеет, в конце концов, свои причины – и любой акт творчества тоже. Но разница в том, что наука, совершая свои, иногда случайные, открытия, обязана их объяснить в терминах причинности, иначе она просто не будет наукой, а искусство, оставаясь искусством, может этого не делать. Художник волен вовсе не осознавать истинных мотивов и результатов своего творчества; учёный же должен всемерно к этому стремиться. Поэтому я скорее разделяю точку зрения Бердяева (которой Вы возражали): «Сущность художественного творчества – в победе над тяжестью необходимости. В художестве человек живёт вне себя, вне своей тяжести, тяжести жизни. (…) Искусство – абсолютно свободно. Искусство – свобода, а не необходимость» [6, стр. 199, 218].
Наука по внутренней необходимости заковала себя в рационально-логические цепи, религия полностью связана своими мистическими обетами; искусство же, благодаря разрыву с причинностью, действительно свободно и не подчинено ничему, кроме свободной воли самого автора. Правда, эта воля, кроме внутренних импульсов, подвержена в той или иной степени внешним влияниям. Но в итоге выбор – как и что делать (или не делать) – всегда остаётся за самим художником. Насильственное же, принудительное ограничение свободы художника, например, цензура, есть не просто умаление или искажение искусства, оно есть нарушение главного его принципа, разрушение самой сути творчества. Абсолютной свободе искусства может противостоять только один внешний императив – воспитанная самим же искусством традиция, или, говоря точнее, – вся историческая память человечества. От этого, конечно, никакой художник отрешиться не может, каким бы новатором он не был.
Ничто не отражает так ярко свободу человеческого духа, как искусство; оно само есть наиболее полное воплощение этой свободы: «Искусство воссоздаёт принципиально новый уровень действительности, который отличается от неё резким увеличением свободы», – эта мысль принадлежит Юрию Лотману [22, стр. 58]. Всё остальное человеческое – наука, религия, все ветви культуры – всё это так или иначе ограничено созданными самим же человеком правилами игры, необходимыми или придуманными. Только в искусстве дух человеческий почти полностью отпущен на свободу и, поистине, «веет, где хочет», подобно Богу, по евангельскому выражению. Не этой ли свободой выпущенного на волю человеческого духа объясняется таинственная сила искусства?
Будучи свободным, творец искусства действительно становится рядом с Творцом вселенной. Но, как Вы заметили, «свобода, которая позволяет человеку уподобиться Творцу вселенной, не может не иметь своей высокой цены». И эту цену всегда приходится платить истинному художнику. Свобода дана ему не ради неё самой, а ради поиска особенных, кратчайших путей к развитию человека – той сверхцели, о которой шла речь выше.
Искусственность искусства
Свобода нужна искусству в том числе и для того, чтобы создавать свои искусственные, то есть неестественные, нарочито придуманные миры. Конечно, как Вы заметили, «свобода принадлежит всем одинаково, и все одинаково ею пользуются, в рамках научных, теологических и других»: построение моделей и гипотез, обретение «своих мнений» и искусственное создание «своих алтарей и своих кумиров», – всё это неизменно сопровождает скитания духа человеческого. Однако нигде искусственность не представлена с такой непременной настойчивостью, как в искусстве – недаром во многих языках слова «искусство» и «искусственный» являются однокоренными. Искусственность, предполагающая замену действительного, существующего мнимым, сделанным, является самой сутью методологии искусства.
Какой бы вид искусства мы ни взяли, он обязательно будет в той или иной степени порождением неестественности. На что уж, кажется, документальное кино и фотография оперируют действитель-ностью как она есть, но и они не могут быть свободны от режиссуры, то есть от придуманности, от замысла художника. «Сделанность» этих видов искусства будет проявляться, по меньшей мере, в отборе сюжетов; обязательно возникают вопросы: почему снимается в данный момент именно это, а не в иное время нечто другое? Возьмите камеру и снимайте «саму жизнь», снимайте что попало, ни о чём не думая, – разве получите вы произведение искусства? – нет, это будет просто технический документ.
Критерий искусственности позволяет безошибочно отличать природу и искусство. Бабочки и цветы, пейзаж за окном обладают всеми признаками «красивости», но каждому понятно, что это – не произведения искусства, потому что они настоящие, тогда как те же объекты, нарисованные художником или описанные поэтом, – искусство. Однако и здесь не всё обстоит так просто: возможно, что разницу между искусством и не-искусством не всегда чётко можно ограничить линией, отделяющей «придуманное» от «настоящего».
Только один пример. То, чем занимается ансамбль Моисеева, – это, конечно же, искусство, даже если танцоры с предельной точностью воспроизводят какой-нибудь реально существующий народный танец. А вот является ли искусством сам прототип – такой же танец, но не «представляемый» на сцене, а происходящий в самой что ни на есть действительности, на какой-нибудь лужайке? Такой же вопрос можно задать и в отношении, например, народной песни, исполняемой на сцене артистами или просто «людьми в жизни». Итак, с одной стороны, применив критерий искусственности, мы получим, что фольклор – это не искусство, потому что он «настоящий», а с другой, – ну, как же так? мы ведь все хорошо понимаем, что народное творчество – это, несомненно, тоже искусство.
Возможно, противоречие это можно разрешить следующим образом. Для самого «народа», для людей, участвующих в народном творчестве, эта деятельность не является искусством, если она представляет собой просто естественную часть их жизни. Для всех же других, кто в этой жизни непосредственно не участвует, эти танцы, песни, изделия народного промысла и прочее выглядят искусственными, сделанными специально, и потому воспринимаются как искусство. (Заметим, кстати, что как только «народ» начнёт своё творчество кому-нибудь (например, туристам) «представлять», оно сразу же обретает качество искусства уже и для самих творцов, поскольку становится искусственным и для них.)
В заключение несколько слов о факторе искусственности в науке и религии – в сопоставлении их с искусством.
Наука изучает действительность рациональными методами, поэтому в ней не так много места остаётся искусственности. Она не чужда искусственных построений, когда ставит свои опыты или пытается с помощью гипотез проникнуть в область неизвестного. В той части и в той мере, в какой наука оперирует явно придуманными физическими или мысленными моделями, её можно считать своего рода искусством. В наибольшей степени сказанное относится, повидимому, к философии – она более других наук склонна к искусственным построениям. Но нужно заметить, что любая наука в каждом своём «придумывании» пытается опереться, прежде всего, на все известные ей факты. Искусство же делать этого не обязано, оно чаще всего оставляет наглядные факты бытия лишь в поле бокового зрения и творит свою собственную, новую, искусственную действительность. (Другое дело, что ирреальный мир искусства в своей основе имеет ту же реальность, что и наука.)
Что касается религии, то она должна считаться естественной в той мере, в какой она – по мнению верующих – дарована свыше. В той же части, которая представлена пророками, вообще людьми, она оказывается своеобразным искусством (к такого роду искусству относятся, например, древнегреческие мифы, многие библейские сказания).
Таким образом, методы искусства (в частности, искусственность) глубоко укоренены и в науку, и в религию, и вообще – во все сферы действия человеческого духа. Источники этого всепроникающего влияния, видимо, следует искать в самой природе человека.
Серьёзные игры искусства
Искусственно сделаное, закодированное искусство по сути своей есть игра – игра человека, как мир – игра Бога. Давно было подмечено: «мир – театр, и люди в нём актёры»; да, в определённом смысле это так, и наша жизнь подчиняется, до некоторой степени, законам театра. С другой стороны, верно и обратное: «театр,– по словам Сергея Юрского, – есть искусство, в котором жизнь выражается в формах самой жизни» [23, стр. 29]. Поэтому, в принципе, нет качественной разницы между ролью, которую актёр играет на сцене, и ролью, которую он играет в своей собственной жизни. Можно даже сказать, что в театре и кинематографе актёры занимаются искусством лишь постольку, постольку они помогают воплощать замыслы драматурга, сценариста или режиссёра. Утверждение это достаточно спорно, конечно, но оно – лишь следствие мысли о сходстве игры-искусства с игрой-жизнью. Символом единства жизни и театра может служить история, разыгранная сказочным Котом в Сапогах: тут есть и предварительный замысел, и постановка декораций, и разучивание ролей, и реализация сверхидеи – где там была жизнь и где искусство?
Несмотря на то, что искусство, как многое в нашей жизни, является игрой, оно, в своей сущности, предельно серьёзно. Замечательно в этом отношении Ваше сравнение искусства с любовью: «Когда любовь перестаёт быть серьёзной – а значит и единственной и окончательной, «последним словом», она перестаёт быть любовью. Другое дело, что кто-то может называть любовью свои весёлые шалости (но кто знает, что такое любовь, ему не поверит). Конечно, искусство может быть развлекательным, шутить и «играть словами» – как влюблённый может улыбаться и рассказывать анекдоты. Но то послание, которое оно несёт в сердце, остаётся архисерьёзным, давая температуру и высоту всему, что с ним связано».
Однако истина искусства не так обоснована, как научная, и не так категорична, как религиозная; поэтому искусство не должно само к себе относиться с той же серьёзностью, как относятся к себе наука или религия. Искусство – оставаясь в глубине своей серьёзным – внешне, так сказать со стороны, может порой казаться несерьёзным, и это не должно умалять добытую им истину. Но как только искусство начинает слишком явно претендовать на «последнее слово» в познании истины, оно становится наукообразным, берёт на себя несвойственные ему функции и как искусство – проигрывает, а иногда и вовсе умирает.
В то же время наука, которая, как кажется, дальше всего от игры, должна быть предельно серьёзна не только внутренне, но и внешне. Наука вообще грустна (как грустно, по большому счёту, всё умное на этом свете). Недаром было сказано: «…Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Екклезиаст, 1:18) [15]. Можно, конечно, и о науке говорить или писать с юмором, однако от этого она не перестаёт быть органично серьёзной, иначе она не будет наукой.
Если же говорить о религии, то и религия – это игра, которая должна, тем не менее, выглядеть безупречно серьёзной – в отличие от искусства.
Человеку время от времени нужно отвлечься от серьёзности окружающего мира и забыть о печалях мудрости и веры, приносимых наукой и религией. Искусство немало этому забвению содействует. Игра искусства может по-разному воздействовать на человека: она заставляет его быть и весёлым, и грустным, и предельно серьёзным; она способна ввести человека в любое состояние, какое только может быть свойственно ему в его реальной жизни (хотя, думается, по-настоящему глубокое искусство чаще вызывает светлую грусть, чем бездумную, беззаботную радость).
Польза бесполезного
Поскольку искусство – в значительной мере игра, оно может – в узко утилитарном смысле – казаться «бесполезным». «Что делать нам с бессмертными стихами? – вопрошал Гумилёв. – Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать» [4, стр. 329]. Чаадаев однажды заметил: «Госпожа Сталь сказала как-то, говоря о музыке, что она отличается прекрасной бесполезностью и что именно поэтому она так глубоко волнует нас» [7, стр. 195], – это прекрасные слова, хотя, думается, музыка волнует нас не только своей бесполезностью. На самом деле польза «бесполезного» искусства просто неизмерима – она, по большому счёту, в том состоит, что, как Вы выразились, «без него человек не был бы человеком», – такая всего лишь малость!
В противоположность искусству, религия и, тем более, наука и техника всегда несут в себе очевидную пользу (первая – пользу духовную и не столь явную, вторые две – вполне материальную и конкретную). С этой точки зрения, например, выполненный по всем правилам техники чертёж вечного двигателя следовало бы отнести не к технике, а скорее к искусству, поскольку он практической пользы не имеет и воплощает в себе лишь некую идею, может быть мечту; это произведение жанра научной фантастики.
Сказанное не означает, что произведение искусства не может быть и само по себе – полностью или какой-то своей частью – полезным также в материальном смысле. Так например, живописный портрет или фотография, помимо чисто художественной ценности, полезны ещё и тем, что позволяют закрепить в памяти людей внешность запечатлённой на них личности; они могут служить историческими документами и т.п. Художественную литературу оценивают не только с её эстетической стороны, она служит множеству вполне практических целей – образовательной, воспитательной, философской, этической. Примеров утилитарной пользы искусства можно привести сколь угодно много. Вероятно, стремление «очистить» искусство, оградить его от утилитарности, послужило – в числе других причин – основанием для появления таких понятий, как «чистое искусство» и «высокое искусство». Наверное, возможны и такие формы искусства, польза которых – чисто эстетическая или настолько сокровенная, что её простым глазом не усмотришь.
С другой стороны, бывает, что вещь, созданная изначально с чисто утилитарной целью, выполняет, вместе с тем, и некую художественную функцию (которая может быть придана данной вещи намеренно или случайно). Эстетическую «нагрузку» могут нести в себе, например, искусно выполненные часы, шахматы, каминные щипцы, резная мебель и многое другое. Какой-нибудь «просто горшок» – не искусство, а такой же предмет, но с рисунком или, например, с ручкой необычной формы, вообще с чем угодно, не нужным с точки зрения сугубо функционального назначения, может казаться уже произведением искусства. Такого рода вещи всегда обладают некой «избыточностью» по отношению к их основной функции, при этом искусства в них содержится столько, сколько имеется этой избыточности. Однако, как Вы заметили, «мы называем всё это произведениями искусства в иносказательном смысле, оценивая отдельно «искусство» и отдельно утилитарную опору этого искусства». При этом избыточности над полезностью, конечно, самой по себе недостаточно для признания предмета хотя бы условно произведением искусства.
Здесь имеет смысл сказать о соотношении художественной и материальной, практической ценности утилитарных предметов, являющихся «по совместительству» произведениями искусства. Как известно, они могут обладать также исторической, археологической, культурологической или иной научной ценностью. Научный интерес может представлять, например, материал, из которого сделана вещь, состав красок, которыми пользовались живописцы, рецептура лаков, употреблявшихся при изготовлении музыкальных инструментов, и т.п. Иногда бывает и так, что научная ценность предмета превосходит художественную.
Однако чаще художественная ценность предмета практического назначения, признанного произведением искусства, оказывается гораздо выше, чем его материальная или научная ценность. В таком случае о всякой другой ценности предмета, кроме художественной, можно просто забыть – настолько она оказывается не важной, и, как правило, она тогда будет иметь значение не сама по себе, а лишь как некий технический или технологический «фон», сопровождавший создание данного предмета. Так можем мы интересоваться, например, материалом, на котором написана картина: холст ли это, картон, доска, – но не это имеет первостепенное значение.
Об излишествах и гармонии
Поговорим теперь об архитектуре, потому что именно в ней наглядно проявляется значение «бесполезных излишеств» искусства. Как известно, архитектура, соединяя в себе науку, технику и искусство, должна одновременно отвечать требованиям пользы, прочности и красоты. Первые два требования совершенно необходимы: сооружаемые здания или их ансамбли должны наилучшим образом соответствовать своему назначению и быть устойчивыми – без этих качеств строительство лишается смысла. Сложнее обстоит дело с красотой: во-первых, она относительна и её нельзя оценить инженерным расчётом, как полезность и прочность, а, во-вторых, она вообще может кому-то показаться ненужной. Например, во времена Хрущёва всем миром, как положено, боролись с “архитектурными излишествами”, и в результате появились «хрущёвские пятиэтажки». Можно говорить о необходимости экономии средств на жилищное строительство в то время и в том месте, но придётся, видимо, констатировать, что, лишившись всяких «излишеств» и будучи воплощением голой целесообразности, здания эти перестали иметь отношение к архитектуре, одним из компонентов которой, как мы помним, должна быть красота, понимаемая в данном случае как избыточность над целесообразностью.
Попробуем теперь определить критерий функционально избыточного в архитектуре несколько шире. Очевидно, что для каждого случая строительства существует оптимальная архитектурная форма, определяемая окружающей средой и условиями проживания людей (примерами предельно рациональной формы могут служить иглу эскимосов, вигвам, чум или юрта у кочевых народов, изба у народов, живших в лесах, прямоугольные, тесно прижатые друг к другу здания, устанавливаемые вдоль улиц в плотно застроенных городах, и т.п.). Всё, что обладает избыточностью над этой конструктивно-экономичной функциональностью, всё излишне-необычное, непривычное является, строго говоря, чистым украшательством и может быть отнесено к архитектурно-эстетическим изыскам. Так могут восприниматься, например, здания с округлыми или криволинейными стенами в среде привычной прямоугольной городской застройки или фасады с внесенной в них нарочитой ассиметричностью. В каждом таком сооружении окажется столько архитектурного искусства, сколько в нём необычайности, то есть – излишества по отношению к привычности. И в этом смысле можно будет даже говорить, что в них вложено «больше искусства» архитектора или «меньше искусства», или – в пределе – что в них нет никакого искусства. (Этого никогда нельзя сказать, например, о картине художника или творении композитора – эти произведения отражают «всё искусство» их создателей. Здесь чувствуется какая-то качественная разница.)
Однако именно в архитектуре порой бывает очень трудно отделить излишки формы, введенные архитектором специально «для красоты», от чисто конструктивных элементов. В частности, достижение прочности необычными методами тоже может восприниматься как компонент архитектурного искусства. Впрочем, подсознание часто помогает нам при первом же взгляде на сооружение интуитивно уловить искусственно-излишнее и отделить его от конструктивно необходимого (другое дело, что взгляд этот остаётся субъективным). Образцом предельного архитектурного лаконизма справедливо считаются египетские пирамиды. В них нет никаких украшений, но есть нечто гораздо более значимое – необычность, величие, сверхестественность, явная избыточность объёма сооружения над его функцией. Поэтому, мне кажется, их можно числить по ведомству архитектуры, то есть искусства (хотя формально, с точки зрения геометрии, пирамида даже проще прямой четырёхгранной призмы хрущёвской пятиэтажки, которую мы не соотносим с искусством).
Далее: почему-то самый простой мост, построенный в соответствии с точными законами теоретической механики, воспринимается нами как «красивый». Такой же красивой кажется и любая рационально спроектированная и целесообразно выполненная конструкция – самолёт, автомобиль – всё, что сделано «хорошо» с учётом законов инженерного дизайна (вспомним, что подобным образом оценивал свои творения Бог). В этих сооружениях и конструкциях как раз и нет ничего избыточного, излишнего, и их красота именно в лаконизме и заключается. Поэтому все они, мне кажется, могут в определённом смысле относиться к произведениям искусства (если хотите – инженерного), поскольку они сделаны искусственно и искусно, поскольку они гармоничны, и, следовательно, красивы. В этих произведениях, как в хорошем научном труде, всё лишнее безжалостно отсечено бритвой Оккама, оставляющей нам только то, что «необходимо и достаточно».
В гармонии формы любой вещи с её назначением чувствуется какая-то глубинная справедливость, идущая от природы или от самого Бога. Не этой ли гармонии вечно ищем мы и в человеческих отношениях – может быть, они могут быть такими же прочными, красивыми, простыми, избавленными от выкрутасов и излишеств, как пирамида или мост?
О новизне
Новизна произведения искусства, отражающая новый взгляд художника, поиск им новой идеи, формы, ракурса, является дополнительным средством воздействия на воспринимающего субъекта (в особенности – на человека, достаточно искушённого в искусстве). В любом виде искусства мы имеем примеры того, как художник ради новизны жертвует очень многим; в числе этих жертв иногда может оказаться и гармония.
В принципе искусство тем и живо, что создаёт (хотя бы в каких-то своих частностях) нечто подлинно новое – то, чего раньше никогда и нигде не было. В этом художник подобен Богу – разница между ними не в сути творчества, а лишь в масштабах творения.
Наука, в отличие от искусства, не преследует цели создания чего-либо принципиально нового – она открывет уже существующее, выявляет и описывает уже действующие законы мироздания (это не значит, конечно, что наука попутно не создаёт новых способов и средств, новых инструментов познания). Техника – в своём отношении к новизне – чем-то похожа на искусство: она только тем и занята, что придумывает новые конструкции.
Если говорить в целом о религиях, то они – особенно давно сложившиеся, – не стремятся к открытию новых истин, их задача – утверждение и усвоение старых, давно им известных. Внешняя, обрядовая сторона религий иногда поддаётся модернизации, но их идейное ядро в большинстве случаев остаётся неизменным. Новизна всегда была опасна для всех религий: часто она оборачивалась ересью, стимулируя создание новой религии.
Историю искусства можно рассматривать как нескончаемую погоню за новизной, потому что в искусстве всё, в конце концов, приедается. Бывает даже так, что «новизна» оказывается, по существу, единственным содержанием произведения искусства; примером может служить знаменитый «Чёрный квадрат» – что в нём ещё было, в момент его появления, кроме новизны? Это потом появились всякие «жёлтые кресты» и «синие треугольники» – но всё это уже неизбежно оказалось вторичным, и поэтому меньше воздействовало на зрителя и меньше запомнилось.
К началу ХХ века, в «эпоху модернизма», наступил какой-то особый, ранее небывалый, кризис новизны. (Неудачный, кстати говоря, термин – «модернизм»: разве всякое искусство в любую эпоху не является «современным», то есть модернистским? За этим вынужденно следует «постмодернизм», – а что потом? «постпостмодернизм»?) Итак, оказалось (или только показалось?), что открывать новое с помощью искусства становится всё труднее и труднее – как будто уже всё и по-всякому было сказано и всё искусством уже было испробовано. Вот и Вы подчёркиваете, что «принцип формы не может изменяться бесконечно» (хотя тут же оговариваете, что иное дело – «ракурс отношения, открывающего в постоянном неожиданное, свежее и оригинальное»). Может быть, именно некоторой исчерпанностью форм следует объяснять изыски всех жанров современного искусства и, в частности, поп-арта и театра: как будто уже почти невозможно найти и выразить нечто новое в человеке и окружающем его мире и очень трудно удивить этим новым зрителя, слушателя, читателя. Инструменты искусства становятся всё острее и изощрённее, оно тратит всё больше сил на изобретение новизны – ради новизны. Создаётся, однако, впечатление, что при этом соответственно снижаются чувствительность и глубина переживаний искушённых «потребителей искусства», до предела пресыщенных всевозможными «заострениями», – снижаются до такой степени, что никого, кажется, уже невозможно ничем в искусстве удивить.
Однако, как Вы пишете, «не стоит, пожалуй, спешить с выводами об исчерпанности в развитии искусства». Если наука способна безгранично развиваться, неуклонно обновляя и совершенствуя свои методы и открывая непознанное в глубинах бесконечно малого и бесконечно большого, то почему бы нам не ожидать развития и от искусства? До сих пор кризисы новизны в искусстве всегда носили временный характер. Можно предположить, что необходимое искусству обновление придёт на путях большего сближения искусства с наукой и религией, на основе нового – интегрального – понимания мира.
О подлинном и спорном искусстве
Проблема новизны в искусстве связана с вопросами: что, собственно говоря, можно считать подлинно новым в искусстве? возможна ли погоня за новизной ради самой новизны и где предел допустимого в этой погоне? Поиск ответов на эти вопросы мог бы помочь нам ещё с одной стороны определить границу искусства и не-искусства (выдающего себя за искусство).
Поговорим о некоторых, если можно так выразиться, «градациях подлинности» вокруг искусства.
Начать, видимо, следует с копий: в них нет ни нового содержания, ни новой формы. Работа копиистов, этих «честных ремесленников», как Вы их однажды назвали, требует определённого мастерства, поэтому следует считать её своего рода добросовестным «вторичным искусством».
Теперь два слова о подделках известных произведений изобразительного искусства (это вечный жанр: первые подделки – произведений эллинской культуры – появились ещё в эпоху Древнего Рима). Здесь мы сталкиваемся с явным обманом, подлогом, мошенничеством. Создание искусных поддельных художественных произведений по своему характеру сравнимо с мастерством изготовления фальшивых ассигнаций – и только.
Далее обратимся к несколько более сложному вопросу: как относиться к талантливым имитациям работ знаменитых художников? Хорошо известны казусы, в том числе и судебные, когда группы лучших в мире экспертов не могли отличить имитации от работ подлинного автора. Художница Клод Латур, например, так блестяще имитировала картины Мориса Утрилло, что сам автор не отличал их от собственных. (Читателей, интересующихся поразительными примерами имитаций, можем отослать, в частности, к интересной статье Е.Манина [24].)
Нельзя не признать мастерства иных имитаторов, буквально вживающихся в мир имитируемого художника и вписывающих в этот суверенный мир свои собственные сюжеты «в духе» данного художника. Моральная сторона такой деятельности совершенно ясна: это не только обман и подлог, как в случае с подделками, это кража имени известного художника, беззастенчивая эксплуатация магии этого имени и паразитирование на нём – чаще всего с откровенно корыстными целями (в некоторых случаях имитаторы занимаются своим делом, в том числе, и ради собственного тщеславия). Вспомним о высокой цели искусства, как мы выше её формулировали, – разве достигается она такими, пусть даже вполне художественными, средствами? Имитация произведений искусства – пример того, как предательство благородной цели может извратить всё: и высокий талант, и дело, которому он призван служить.
Самые искусные подделки и имитации не имеют никакого отношения к искусству: ложь не служит развитию человека до образа и подобия Божьего. «Польза», полученная таким способом некоторыми талантливыми людьми, – это плата за принятие приглашения князя Тьмы следовать за ним в те мастерские, где экономику извращают фальшивыми банкнотами, политику – фальшивыми ценностями, а искусство – фальшивыми шедеврами.
А теперь перейдём к разговору о подлинности самих подлинников – я имею в виду непростой вопрос о том, как нам относиться к некоторым разновидностям современного искусства, вокруг которого не умолкают споры. О многих таких произведениях, часто пользующихся шумным успехом, граничащим со скандалом, иногда хочется сказать: «своего рода искусство» или «спорное искусство»; вот давайте и будем, чисто условно, использовать последний термин. В ходе нашей дискуссии выявились разные оттенки в оценке такого искусства; возможно они достаточно характерны и стоит поговорить о них подробнее.
Например, по поводу работ Энди Уорхола, известного американского художника, лидера поп-арта, задаются недоуменные вопросы: «Что он хотел сказать? в чём была его идея? каков был его замысел?». Наверное сам Уорхол мог бы ответить: «А ничего я не хотел сказать. Мой замысел только в том и состоит, чтобы вы задавали ваши дурацкие вопросы». Известно, что Уорхол завещал начертать на своей могиле одно слово – «FICTION». Это прекрасная эпитафия: действительно, то, что он делал в искусстве, есть выдумка, фикция – так буквально это слово переводится на русский язык (но по-русски фикция – ещё и обман, ложь, фальшивка). И если бы было позволено чуть расширить эту эпитафию, я бы добавил к ней ещё одно слово – «PROVOCATION». Эти два слова вместе и образуют, возможно, настоящее кредо Уорхола, а вместе с ним и всего поп-арта.
С одной стороны, можно сказать (и я сам тоже склонен так думать), что искусство должно, в том числе, и провоцировать, задевать, задирать и цеплять людей, будя их сознание, иногда засыпающее от однообразия и предсказуемости жизни (и искусства тоже). Разве выдумка не есть элемент искусства? Разве так просто заставить людей думать и говорить о себе, вызывать споры, удивление, иногда даже возмущение? И разве это не является функцией искусства (не единственной, но всё же – одной из многих)? Может быть, искусство вызывать вопросы, будоражить сознание, иронизировать, пародировать, дерзить и эпатировать – это именно то, что требуется от «спорного искусства», находящегося на границе допустимого? Недаром же оно вынуждает людей (в том числе весьма искушённых) яростно спорить. Есть ведь понятие «цирковое искусство» – там удивляют трюками; то, что представляет миру поп-арт, – тоже своеобразные рискованные трюки.
С другой стороны, не могу не согласиться с Вами, когда Вы замечаете, что эпатировать публику как раз проще всего: «Написать надпись в лифте, появиться в опере одетым в пижаму, вести себя развязно, громко сказать что-то неуместное… Велик набор подобных простых и доступных средств, чем охотно и пользуется огромное множество современных нам новаторов… Слово «выдумка» здесь не очень подходит. Выдумки в этих произведениях как раз сильно не хватает. Особенно выдумки как элемента искусства. А для того, чтобы провоцировать людей, будить их сознание у искусства полно своих способов и приёмов… «Дерзость и новизну», не имеющие отношения к искусству, лучше было бы не притягивать в него за уши, а держать в специально отведенном месте, где и положено находиться аттракционам и где они приносят свою пользу и не вводят зрителей в заблуждение». Таким образом, Вы помещаете поп-арт (и работы Уорхола, в частности ) не на границе, а за границей искусства.
Предыдущие два абзаца выражают наше – достаточно противоречивое – отношение к «спорному искусству» в несколько теоретизированной форме. Попробуем теперь обратиться к личным впечатлениям (хотя они, конечно, ничего не доказывают: восприятие искусства у каждого своё). Но всё же…
Честно говоря, меня лично поп-арт оставляет почти равнодушным к большинству его проявлений; спорное искусство меня, скажем так, не вдохновляет. Я готов был бы априори признавать его искусством, но всё же оно кажется мне каким-то недостаточным: оно вызывает во мне, главным образом, удивление, иногда недоумение, но и только. Я привык ожидать от искусства чего-то большего. В конкретности «банок» редко находится работа воображению; так и хочется спросить: «ну и что? а дальше-то что?»
А вот Ваши впечатления: «Уорхол, признаться, меня не удивляет, не искушает искать в его трюках чего-либо значительного. Они выглядят пошлыми, а пошлость даже не любопытна. Хотя не буду отрицать, что в широких массах она умеет пользоваться спросом. На то это и поп-арт.».
Как видите, отличаясь некоторыми нюансами, наши личные впечатления от спорного искусства в основном совпадают. Так почему же мне словно бы хочется загородить его от критики?
Я думаю, это объясняется, во-первых, моим вполне дилетантским воспитанием: я верил тому, что всё вывешенное на стенах музеев по крайней мере сделано мастерски. Я привык этому доверять, и, как правило, верить искусствоведам больше, чем собственным суждениям. Признаюсь, что меня не волнуют, например, ни Шишкин, ни Лактионов, – но что же, не считать этих художников великолепными мастерами? Убеждён, что личные пристрастия не могут служить конечным критерием никакого искусства, в том числе и спорного. Неопределённости, неуверенности оценок изобразительного искусства, видимо, способствует и его специфика: пробежав глазами несколько абзацев книги, я отчётливо понимаю, с чем имею дело; для суждения о картине видимо требуется нечто большее.
Во-вторых, на мои оценки влияет ещё одна сторона личного опыта: «советская действительность» привила мне (конечно, не только мне) негативное отношение к безоговорочной критике, и я с большой – может быть даже чрезмерной – опаской отношусь к резкому отрицанию чего бы то ни было, что может содержать хотя бы намёк на творчество. Когда я слышу споры по поводу спорного искусства, первое слово, которое мне хочется сказать, – это «осторожнее!». Примерам первоначальной непризнанности великих мастеров нет числа. Нужно, однако, признать, что богатство и слава, шумный успех, часто скандальный и незаслуженный, имеют много шансов развратить и, в конечном счёте, погубить даже подлинно талантливого художника, писателя, режиссёра – любого деятеля искусств, искушаемого приманкой успешности. И как часто художник стоит перед дилеммой – отстоять или потерять свою честь; этот искус вечен, как само искусство.
Означает ли всё это, что, учитывая противоречивость отношения к спорному искусству, мы должны вовсе отказаться от попыток оценивать то или иное произведение и искать ответа на вопрос: всё же искусство ли это? Или, ставя перед словом «искусство» прилагательное «спорное», мы делаем какую-то уступку высокой требовательности и согласны на признание любой «банки» подлинным искусством? Я далёк от того, чтобы упрекать кого бы то ни было в использовании не всегда эстетически безупречных средств добывания себе хлеба насущного, но всё же вещи надо называть своими именами. Главная беда, может быть, не в том, что существуют, с одной стороны, массовое «спорное» искусство, а с другой, – не менее массовое искусство китча; дело – в их неадекватных претензиях: оба, потеряв понимание своего истинного места, с полной серьёзностью, без всяких скидок именуют себя искусством. Удивительно, например, когда сочинительница модных детективных повестей, которые она, по собственному признанию, пишет примерно по одной в неделю, говорит о своей работе: «моё искусство…» Я готов признать полезность и даже необходимость развлекательной литературы, но, полно, искусство ли это – то, чем она занимается, и чем её издатели завалили прилавки? Они (писательница и издатели) могут, конечно, сказать вместе с американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом: «Если это покупают, значит, это искусство»; существует и подобное, конечно шутливое, определение Доналда Джадда: «Если кто-либо назвал что-либо искусством – это искусство». Но должны ли мы с этим соглашаться и принимать такие определения всерьёз? Не потеряются ли при этом вообще всякие критерии искусства?
Я думаю, мы не должны уходить от прямого ответа на эти вопросы. Попробуем, ради объективности оценки, воспользоваться предложенным выше критерием истинности искусства. Спросим себя: стремятся ли воспеватели суповых банок и другого подобного служить – хотя бы косвенно – развитию человека до образа и подобия Божьего? и вообще – стремятся ли они к чему-либо, кроме того, чтобы привлечь к себе внимание, удивить, извлечь материальную выгоду? Ответ кажется очевидным: нет, они ни в какой мере не служат никаким высоким целям. Мы уже говорили о том, что порой трудно бывает определить, что является искусством, зато гораздо легче распознать то, что искусством не является.
Не следует ставить художников и лихих имитаторов на одну доску. «Мне ни при каких обстоятельствах и ни под какими предлогами не хотелось бы видеть тех и других поставленными на одну ступень, возведенными в один ранг, – говорите Вы. – Финансовые интересы отражаются не только на отборе выставок. Они снабжают практически любого желающего титулом художника. Всё это абсолютно не имеет отношения ни к таланту, ни к труду художника, ни к стремлению к совершенству…»
Гипотетически можно было бы предложить (Эрмитажу?) небольшое добавление к экспозиции работ Уорхола. Речь идёт о трёх полотнах, проданных в США за 26000 долларов; их автором был известный художник – шимпанзе по кличке Конго. Успеху картин несомненно способствовало имя художника, но если бы оно оставалось неизвестным, то, скорее всего, вокруг этих картин тоже разгорелись бы яростные споры: что же хотел сказать нам выдающийся мастер, в чём заключалась его недоступная нашему пониманию глубокая идея?
Вот и самая последняя граница подлинности искусства, за которую уже отступать нельзя. Она проходит там, где творение рук человека невозможно отличить от шедевров, созданных руками (ногами?) обезьяны или мордой дельфина. (Смею Вас уверить, что бои на этой границе, возможно, никогда не закончатся: скоро на ней рядом с животными встанет компьютер).
Да, нужно воздерживаться от резких нападок на людей, считающих себя художниками, но пусть и голые короли спорного искусства воздерживаются от своих небескорыстных экспериментов над публикой, которую они видимо в глубине души не уважают. Не стоит ли нам сказать им: развлекайтесь сами и развлекайте публику; творите в конце концов, что хотите, – для свободы самовыражения; успешно конкурируйте хоть бы и с шимпанзе и продавайте ваши шедевры, если есть желающие их покупать; – но, ради бога, вспомнив о собственных ваших целях, не называйте своё «спорное искусство» искусством без кавычек и не требуйте к себе уважения, какого вправе ожидать те, кто заработал своё право называться художником.
Рынок на площади Искусств
Усреднённая степень соответствия искусства его высокой цели (если его вообще можно как-то интегрировать в пределах той или иной эпохи) определяется уровнем духовности, образованием, историческими традициями, сиюминутными настроениями и чаяниями двух неравновесных общественных сил: тончайшим слоем искусствообразующей элиты, с одной стороны, и огромной массой так называемых простых людей, потребителей искусства, – с другой. Эти силы непрерывно, динамически, не всегда явно, но достаточно сильно влияют друг на друга, и граница искусства, в конечном счёте, устанавливается ими совместно.
При этом, напоминаете Вы, «не следует упускать из виду и самый ответственный слой: тех посредников между искусством и публикой, которые и образуют стандарт – агентов, редакторов, худсоветы, выставкомы и т.п.». В искусстве, как в любом «производстве», установка «контролёрами» низких стандартов качества может сказаться на общем уровне продукции самым пагубным образом: если считать публику «дурой», то она таковою и станет. Подлинное искусство и настоящая наука не могут быть «простыми», и приобщать к ним людей совсем не просто; гораздо легче транслировать нечто примитивное – не-искусство и лженауку. Но деятельность посредников – это особый разговор, сейчас мы не о них.
В целом потребительский рынок искусства является – хотим мы того или нет – объективным мерилом уровня духовных потребностей общества. Мне очень понравивилось Ваше высказывание о том, что «конкретная цена, уплачиваемая покупателем за приобретаемое произведение искусства, всегда есть характеристика не произведения и в большинстве случаев не автора, а только самого покупателя…» (В связи с этими Вашими словами вспомнился пародокс Оскара Уайльда: «На самом деле искусство отражает не жизнь, а зрителя».) Зеркало рынка точно, как ему и полагается, отражает вкусы, настроения, взгляды, воспитание современного общества, и с этим, казалось бы, ничего не поделаешь. Но разве нормально, что в цивилизованных странах с высоким уровнем образования и культурными традициями подавляющее большинство граждан делает выбор в пользу таких «произведений искусства», которые на деле ими не являются? Как объяснить этот парадокс? И что с этим делать? Одни говорят, что ничего в принципе делать не нужно, что рынок сам всё регулирует и его нельзя насиловать; другие, – что «рынок пора поставить на место; в конце концов, существуют вещи, которые дают не экономическую, но нравственную прибыль государству» (это было сказано Евгением Евтушенко в одном из его интервью).
Творцы искусства любят провозглашать свою полную независимость от «толпы», но на самом деле на это способны лишь немногие личности с сильным характером. Подсознание художника генерирует противоречивые импульсы. С одной стороны, он невольно стремится угодить публике (здесь не одна материальная выгода, есть ещё жажда известности, стремление утвердить себя – всё это естественно: человек остаётся человеком, и далеко не каждый способен быть небожителем). С другой стороны, несомненно существует тот «высший суд», о котором ещё Пушкин говорил и которым безжалостно судит себя каждый «взыскательный художник», стремящийся сохранить самоуважение.
Утверждая, что массовое потребление всегда профанирует искусство и существенно снижает его общий «средний уровень», мы можем спросить: но кто же больше всего в этом виноват? Я склонен обвинять в этом не столько публику, иной раз с восторгом принимающую суррогаты искусства, сколько их сочинителей и исполнителей. В конечном счёте, к публике нужно быть снисходительным, она такова, какова есть, с неё слишком многого требовать нельзя – хотя бы потому, что «масса» собственной души не имеет, это неподвластная логике и разуму стихия вкусов, которой нет дела до устремлённости искусства в вечность.
С другой стороны, Вы отмечаете, что при этом «каждая отдельная душа остаётся ответственной за свой выбор – никто не свободен от ответственности; толпа пусть живёт одним днём, но каждая душа, если захочет вечности, должна иметь, где её искать».
Тем больший спрос с душ одарённых, выбравших искусство, они вполне могут собой управлять и за себя отвечать – и не только с позиций настоящего, но и перед лицом вечности. Духовная элита общества не должна ограничиваться критикой «вкусов толпы» и тех «посредников», которые всегда руководствуются конъюнктурой рынка и внутриклановыми предпочтениями. Если планка требовательности публики, её вкусы стали настолько низкими, что всякий, кому вздумалось называть себя деятелем искусства, легко её преодолевает, то в этом виноваты, в значительной степени, сами авторы. Могут ли безоглядно угождать толпе писатели, художники, артисты – все, кто действительно имеет отношение к искусству? Если они не будут всеми доступными им средствами возвышать, прежде всего, каждый свою собственную планку, то кто тогда сможет поднять уровень восприятия искусства «массой»? До какой степени художник может оглядываться на рынок и не должен ли он сам пытаться как-то облагородить его? Вот как Вы отвечаете на эти вопросы: «Обозревать рынок (но не оглядываться на него) художнику позволительно до той границы, где тенденции рынка вступают в противоречие с тенденциями творчества. Художник должен быть готов к самому тяжёлому и худшему: если он выбирает для себя искусство, то он его выбирает вне всякой зависимости от других возможных условий. Если же он сначала поторгуется, то искусство само его не выберет».
Подобно тому, как непререкаемый долг учёного заключается в том, чтобы никогда не подтасовывать факты, долг художника – в том, чтобы не подменять искусство его имитацией.
Личность, индивидуальность, ответственность
Многое из того, что выше говорилось о противоречивости оценок искусства, можно объяснить тем, что искусство по своей природе индивидуально и личность играет в нём намного большую роль, чем в науке, вообще в культуре или даже в истории. Собственно говоря, творческая личность абсолютно всё в искусстве и определяет. Конечно искусство, как и вся культура, развивается в русле своего времени, и авторы всегда остаются детьми века. Но внутренне художники всё же оказываются самодостаточными и независимыми, несмотря даже на часто встречающийся конформизм. Как бы – даже нарочито – ни пытался иной автор приспособиться к чему-то внешнему, всё равно в его творчестве будет много неповторимого, присущего именно ему и никому другому.
Хотя в искусстве возможно и коллективное творчество, например в концерте или спектакле, но и тут искусство остаётся индивидуальным: оно рождается прежде внутри одного человека – композитора, дирижёра, хореографа, режиссёра, да и каждый исполнитель творит сам по себе, хотя и во взаимодействии, в согласии с другими. Известны также примеры совместного творчества (из писателей – братья Гонкур, братья Стругацкие, Ильф и Петров и немногие другие). Но не приходит же в их головы одновременно одна и та же мысль, не предлагается один и тот же образ или приём; что-то придумывает один, что-то другой, потом они вместе придуманное обсуждают, корректируют – это просто особый вид совместной работы. (Хотя надо признать, что при этом творческие потенции соавторов не просто складываются, а зачастую умножаются; нечто подобное происходит и в процессе коллективного научного или технического творчества.)
Стало аксиомой утверждение, что Периодическая система элементов неизбежно была бы открыта – если не Менделеевым, то кем-нибудь другим; то же самое можно сказать буквально обо всех открытиях науки и техники. Заслуга первооткрывателей – только в том, что их гений позволил им понять некую существующую в природе закономерность раньше других. Известны всё же примеры неповторимости научных результатов – так, с XVII века никто не может найти общего доказательства Великой теоремы Ферма, – но такие редчайшие исключения лишь подтверждают общее правило: в науке то, что сделано одним, может быть в принципе сделано и другим. При этом важно не только то, что открываемые научные истины отражают объективную реальность, но также и то, что любое открытие – кто бы его ни совершил – будет выражено одним и тем же способом – строгим языком науки. В искусстве же художественная истина может быть понята, раскрыта и выражена различными художниками настолько по-разному, что и сама эта истина предстанет как бы «множественной». Вот что Вы говорите по этому поводу: «Художник, открывший, быть может, тот же многократно открытый другими закон, сообщит о нём языком уникальным и понят будет всеми по-разному. Поэтому для прочих художников всегда остаётся возможность снова и снова открывать всё тот же закон – в этом, в частности, состоит гарантия неисчерпаемости искусства». При всём этом никто в искусстве не может заменить конкретного поэта или художника; если бы не существовало именно данного автора, то не было бы никогда и того, что им создано. Не следует ли отсюда вывод, что любая цивилизация должна была бы ценить творцов искусства больше, чем деятелей науки?
Все открытия искусства всегда индивидуальны и порождаются одинокой творческой личностью подобно тому, как религиозные откровения индуктируются личностью пророка. Но, может быть, не менее важно то, что искусство совершенно индивидуально по восприятию. Если открытия науки и достижения техники адресованы, в конечном итоге, человечеству в целом, то произведения искусства – каждой человеческой душе в отдельности.
По существу, искусство – одно из наших дополнительных чувств, поистине шестое чувство, данное в избытке только человеку. Любой человек воспринимает искусство сам, и никто не может помочь ему в этом ощущении, как не может помочь ему видеть, слышать или любить. Это дело вашей души. Конечно, вы можете обладать (или не обладать) знанием и пониманием законов искусства, и искусствоведы могут способствовать вашему просвещению; это похоже на то, как для улучшения зрения пользуются очками: они помогут что-то лучше разглядеть, но всё равно – видите-то вы сами, а не кто-то вместе с вами или вместо вас. В конечном счёте, всё начнётся и закончится вашим собственным личным восприятием, вашим неповторимым индивидуальным переживанием.
Индивидуальность восприятия произведений искусства проявляется ещё и в том, что каждый сам выбирает себе драгоценности из коллективной исторической сокровищницы искусства. Образованные люди отличаются друг от друга, в частности, тем особенным «багажом» искусства прошлого, который они носят при себе, – тем, что именно они помнят и что они в тот или иной период своей жизни забывают. (Перефразируя известное выражение, можно утверждать: скажите, какие стихи вы сейчас помните, и я угадаю, что вы за человек и что сейчас переживаете.) Один любит и помнит Гумилёва, другой – Багрицкого, и получается, что эти два автора-современника обрели каждый свой индивидуальный жребий не только в своём творчестве и реалиях своих судеб, но и в сознании тех, кто живёт после них. Такова участь всех творцов искусства.
Завершая разговор о роли личности, отметим одну удивительную особенность. В догматах большинства религий навсегда утверждена нерасторжимая связь с фигурами, стоявшими у основ данного учения (попробуйте отделить иудаизм от Моисея, буддизм от Будды, христианство от Христа или ислам от Мухаммеда). В то же время и в науке и в искусстве открытая кем-нибудь истина почти сразу же отчуждается от автора и начинает жить своей независимой жизнью. Хотя сами авторы, пока они живы, несут ответственность за то, что ими создано, их творения обретают собственную судьбу. Эти творения – научные открытия или произведения искусства – важны прежде всего сами по себе, и лишь во вторую очередь – тем, что в них отразились взгляды автора, его личность и биография. Физикам, использующим в своей работе открытия Эйнштейна, не так важно, каким он был человеком; во всяком случае, не это интересует их в первую очередь. Так же и людям, слушающим музыку Вагнера, должна быть важнее всего она сама по себе, а не то, что её любил Гитлер или что автор был антисемитом. Оценка научных открытий или произведений искусства с преимущественным «переходом на личности» их авторов кажется нелогичной. Как говорил Оскар Уайльд, «то обстоятельство, что человек – отравитель, не может служить аргументом против его прозы» [3, стр. 141]; хотя я согласен с Вами: «то качество, которое сделало его отравителем, не позволило бы и его прозе быть безгрешной». Что же, будем судить именно эту прозу – такую, какой она в результате получилась.
История таким образом и ведёт свои никогда не заканчивающиеся судебные процессы, в них открытиям учёных и произведениям искусства и – отдельно – их авторам воздаётся каждому по специфическим законам. При этом авторы вечно отвечают и за себя и за свои творения, а о последних должно судить независимо от их авторов.
Подсудимые времени
Об обществе, как об отдельном человеке, можно судить и по такому критерию: как оно относится к прошлому, что оно помнит и что им забыто. Общество ведёт свой нескончаемый суд над прошлым – над каждой эпохой и каждым конкретным фактом истории. Это странный суд – с многочисленными судьями и постоянно заменяемыми присяжными, с обновляемыми свидетельствами и непрерывными коррекциями приговоров. Интерес к отдельным «делам» в этом суде то вспыхивает, то затухает, но никогда до конца не угасает и тянется бесконечно сквозь всё историческое время. Этот процесс непрерывной ретроспекции событий собственно и есть история человечества (и история искусства, в частности).
В связи с перманентностью этого процесса возникает вопрос: кто, в конце концов, способен дать более верную, взвешенную, всестороннюю оценку конкретным историческим событиям или произведениям искусства – современники или потомки? С одной стороны, мы не можем рассматривать давно прошедшие события с такой зоркостью, как их современники, и поэтому наша оценка будет в чём-то, особенно в деталях, не точной. Но, вместе с тем, есть надежда, что эта оценка будет более полной, так как она отражает последствия данного события. И может быть как раз в этой, пусть запоздалой, оценке и проявятся трудно уловимые объективные закономерности исторического процесса и истории искусства?
То, что оценки событий прошлого существенно меняются на протяжении самой истории, – явление совершенно неизбежное и закономерное. Непрерывное переосмысливание истории похоже на процесс итерации в математике: каждое последующее решение включает, «вбирает» в себя предыдущее, но учитывает при этом некоторые новые (современные) условия. Каждая новая операция что-то добавляет к сумме уже имеющихся знаний, но каждое такое добавление всё меньше влияет на уже имеющийся накопленный результат. В этом процессе более точной и полной, с общеисторической точки зрения, оказывается оценка не современников события, а потомков; причём – как ни пародоксально – самой достоверной оказывается оценка более отдалённых потомков. Это правда, что у каждого времени своя правда, но у более позднего времени, кроме «своей правды» (от которой никуда не денешься), есть ещё одно важное преимущество – всечеловеческий опыт, накопленный за время, прошедшее с момента оцениваемого события. Именно он позволяет дать историческому факту интегрирующую оценку. Короче говоря, это оценка прошлого с позиций настоящего. Для истории, для человечества в целом, главным, в конце концов, является именно это – наступившие реальные (хотя и всё более затухающие с течением времени) последствия. На вопрос: кто правильнее, полнее оценивает Великую Французскую революцию – люди конца XVIII-го или начала XXI-го века, я бы без колебания ответил: вторые – потому что они знают не только то, как это начиналось и происходило, но и то, чем это кончилось – в XIX-ом и последующих веках; следовательно, они знают и понимают больше. Можно провести здесь несложную аналогию с оценкой человеком собственной жизни: в молодости некое событие переживалось острее, непосредственнее, но только в преклонном возрасте человек – несмотря на то, что уже забыл некоторые детали – может понять, как событие, в конечном счёте, повлияло на его судьбу и каково, следовательно, было его истинное значение.
Развитие науки в целом во многом сходно с интеграционным историческим процессом: в науке существенно перерабатываются прежние знания и постоянно учитываются все текущие достижения познания. Что-то каждым поколением полностью отбрасывается, что-то заменяется, нечто новое добавляется и затем – лишь в таком виде – усваивается. Одним словом, происходит непрерывная коррекция науки. Как правило, наука и техника не потребляют непосредственно научную продукцию прошлого – она должна быть скорректирована, приспособлена, переведена на современный язык. Прошлые достижения, хотя и служат фундаментом современной науки, сами по себе существенно устаревают или же, если и сохраняют ценность, то лишь как часть более общей осовремененной картины мира (таковы, например, Евклидова геометрия и классическая механика Ньютона). Можно сказать, что атомные модели Резерфорда и Бора «глубже» представлений Демокрита; теория относительности Эйнштейна «прогрессивнее» классической механики, потому что включает её в себя как частный случай; и т.д. – примеры можно множить. Таким образом, есть полное основание говорить о прогрессе науки.
Совершенно иначе обстоит дело с оценкой искусства прошлого. Если историческая истина становится истиной постепенно – по мере отдаления от оцениваемого события, если научная истина диалектически отрицает и дополняет прошлые знания, то истина искусства может с достаточной полнотой обнаружиться в любой момент – немедленно или через века. Все произведения искусства несут на себе более или менее явную печать своего времени; однако, это скорее некая тень, окраска, а не глубинная их сущность. Послание художника, запечатлённое в произведении искусства прошлого, проходит сквозь толщу веков, подобно тому, как пучок нейтрино, не изменяясь, пронизывает земной шар. Могут устаревать жанры, формы, стили, приёмы, методы, технические средства искусства, но никогда не устаревают темы, сюжеты, вообще основное содержание искусства, которое сохраняет свой первоначальный смысл независимо от современных воззрений. Архаичные по форме трагедии Софокла и Эсхила остаются современными в самом главном – в своём общечеловеческом, вневременном содержании. Можно сказать, что искусство прошлого современно в той мере, в какой оно вообще является искусством. Создания мастеров прошлого не служат только фундаментом культуры последующих поколений, они самодостаточны, их ценность с годами не уменьшается, но зачастую существенно возрастает. Коррекция искусства невозможна и не нужна. Достижения искусства могут переосмысливаться, но всё же они навсегда остаются уникальными, неповторимыми, ценными. Аналогов этому нет ни в какой другой отрасли человеческой деятельности – только искусство несёт на себе эту удивительную печать вечности.
Итак, можно говорить о прогрессе науки, культуры, иногда целой цивилизации, но к искусству понятие прогресса абсолютно неприменимо. Нельзя утверждать, что искусство Родена «прогрессивнее» искусства Фидия; их просто невозможно сравнивать по этому признаку. (Поэтому, между прочим, термин «прогрессивное искусство» кажется абсурдным по самому своему звучанию.)
Можно утверждать, что наука, вообще культура, отчасти даже религия – развиваются. Искусство же не то чтобы стоит на месте, но, как зачарованное, бесконечно кружится вокруг одного и того же. Вокруг чего? О чём хотят сказать нам, в чём хотят убедить нас все эти накопившиеся с незапамятных времён неисчислимые богатства искусства – статуи, картины, звуки музыки, строки стихов? Всё о том же – о нас самих? Да, но и не только об этом…
Ритмы истории искусства
Оскар Шпенглер был прав, говоря, что культуры рождаются, расцветают и умирают, подобно цветам. Однако ни одна культура не исчезает бесследно: каждая оставляет человечеству в наследство сокровищницу искусства – это может быть большой сундук или маленькая шкатулка, – но что-то всегда остаётся. Истинное значение той или иной культуры могут оценить только будущие поколения, когда будут сами выбирать для себя оставленные им драгоценности.
Храня прошлое, искусство питается и соками современной жизни; каждое новое поколение людей воспитывается, прежде всего, на идеях и искусстве современности. Но при этом огромную роль продолжает играть и искусство недавнего прошлого, которое долго ещё живёт в подсознании народа. Период достаточно активного «последействия» искусства составляет, как мне кажется, 50-100 лет (что примерно совпадает с отмеченной Л. Н. Гумилёвым минимальной длительностью подъёма или падения уровня пассионарного напряжения этноса – см., например, [25, стр. 17]).
Эффект мощного воздействия искусства прошлого многие из нас испытали на себе: великое русское искусство XIX-го – начала XX-го века, вопреки полному его несоответствию реалиям советской эпохи, долго продолжало питать общество своим гуманизмом. Без чарующего шёпота ушедшей культуры, без её смягчающего влияния падение общества в пропасть экстремизма и бездуховности было бы ещё стремительнее и безогляднее.
И сегодня, наблюдая современное искусство, мы можем задуматься над тем, каким будет его влияние на общество конца XXI века, что это искусство сообщит будущему через 50-100 лет, какие импульсы оно ему передаст.
Энергичность искусства, его, так сказать, «плотность» в единицу времени, меняется от эпохи к эпохе – подъёмы интенсивности и качества искусства сменяются падениями по собственному загадочному закону. Ритмы и побудительные причины этого волнообразного процесса подспудным, совсем не очевидным образом связаны чуть ли не со всеми аспектами общественной жизни – с экономикой и политикой, с этногенезом и религией, с воздействием соседних цивилизаций и т.д., – кажется, всё в нашем мире способно, в конечном счёте, влиять на развитие искусства. И всё же это развитие как будто бы движется своими собственными, внутренними силами, не связанными необходимостью с экономическим бытием народа.
Известны примеры неожиданно резкого подъёма интенсивности искусства. В течение короткого времени в той или иной стране начинают один за другим рождаться разносторонние таланты и среди них – выдающиеся гении, которые, подпитывая и как бы сменяя друг друга, совместно создают мощнейший взлёт высокого искусства почти всех жанров. Процесс этот напоминает явление положительной обратной связи или волновой интерференции: еле заметные поначалу колебания складываются, взаимно усиливаются, и вот постепенно возникает мощная волна… Так было в античном мире V-IV веков до н.э., в Италии XIV-XVI веков, в странах Западной Европы XVIII-XIX веков, в России XIX века.
Необычайный подъём искусства длится один-два, от силы три века. Затем на фоне казалось бы продолжающегося духовного расцвета намечается одряхление, искусство утрачивает естественность и простоту, становится вычурным, изощрённым, оно будто бы начинает задыхаться без притока новых идей и образов. Всё становится каким-то вторичным, бессильным, даже мертвенным и жалким. Появляющиеся время от времени таланты более не способны оживить никнущее искусство; почему-то перестают рождаться гении. Наступает период упадка, верными признаками которого являются примитивизм, огрубление, отбрасывание «подробностей». Искусство начинает казаться малозначимым, оно словно бы теряет свою магическую силу.
Затем, после того, как общество само убедит себя во всеобщем упадке, а многие вообще поверят в наступление конца света, происходит нечто похожее на всеобщее пробуждение от кошмарного сна, – откуда-то берутся свежие силы, искусство постепенно оживает, и исподволь начинается новый поъём. Вот Ваше видение инерции такого подъёма: «Новый виток интенсивности в искусстве (или историческом развитии) не может начаться, пока есть хоть малая возможность опираться на прежнее, питаться прежним, даже истреблять прежнее, заряжаясь от него при этом. Только когда опора за спиной перестаёт держать, человеку не остаётся ничего другого, как создавать опору впереди… Параллельно с остаточным действием затухающей волны начинается процесс зарождения новой».
Но, как показывает история, в данном этносе следующий подъём может быть значительно слабее предыдущего, а может и не наступить никогда. Убывающей энергии прошлого подъёма искусства может хватить на многие десятилетия (а иногда – и на столетия) народной жизни. Так было в России ХХ века, но скоро иссякнут, перестанут быть заметными последние ручейки, порождённые схлынувшей волной великой культуры прошлого…
Вспомнились слова Игоря Моисеева, сказанные им в 1996 году: «За время моей жизни русские стали хуже…», – не знаю, насколько справедливо это наблюдение и можно ли так говорить о целом народе. Во всяком случае, я уверен, что такого рода оценки – «лучше», «хуже» – не должны применяться к искусству, особенно если речь идёт о разных эпохах. И всё же сравнения иногда напрашиваются. Поставьте, например, рядом два четверостишия – из известного романса на слова А.К.Толстого и модного шлягера конца XX века (и вспомните соответственно их мелодии):
«Мне стан твой понравился тонкий «Отказала мне два раза:
И весь твой задумчивый вид, «Отвали», – сказала ты…
А смех твой, и грустный и звонкий, Вот какая ведь зараза –
С тех пор в моём сердце звучит»; Девушка моей мечты!»
Разве можно удержаться от невольного сопоставления этих двух капель, так явственно отразивших два века, две культуры, два языка, разных мужчин и разных женщин, наконец? «Какой пройден путь!..», – заметили Вы по этому поводу. Будем, однако, справедливы: и во времена А.К.Толстого не все заслушивались романсами, большинство людей довольствовалось песенками; и тогда ведь было искусство и была массовая культура. Впрочем, при любых сравнениях следует помнить, что, как Вы сказали, «искусство не может быть опошленным, пошлым может быть то, что иногда называют искусством, – ключ в этом». Этот ключ мы уже применяли, открывая банки Уорхола.
Всё же говорить о «деградации искусства» по большому, многовековому, счёту, мне кажется, следует с большой осторожностью: упадок искусства, возможно, является в какой-то мере необходимым условием, предпосылкой его грядущего подъёма. Вы говорите об этом с большей решительностью: «Деградация искусства совершенно необходима. Чем основательней исперпаны следы прошлого, прошлых привязанностей, тем больше шансов на грандиозность будущего. Так что у нас есть основания готовить себя к грандиозности».
Чувство искусства
Всё связанное с созданием и восприятием искусства настолько неописуемо, необъяснимо в терминах других способностей людей, что можно предположить даже наличие у человека – и только у него! – какого-то особого, шестого, чувства, о котором поэтично писал Николай Гумилёв [4]. Кажется, все люди от природы наделены этим чувством (но в разной степени – как разными могут быть острота зрения, музыкальность слуха, чуткость осязания, тонкость обоняния и вкуса). Это шестое чувство можно было бы назвать чувством прекрасного, но ведь область искусства простирается гораздо дальше восприятия одной красоты. Прекрасное, как и добро, – всего лишь часть нашего мира, и искусство не замкнуто только в них, оно отражает также уродство и зло как обратные стороны красоты и добра. Поэтому не лучше ли называть то, о чём идёт речь, просто «чувством искусства»? Именно оно выводит нас за пределы пяти чувств, которыми обладают и животные (и даже гораздо более изощрённо). Именно это чувство вводит нас в таинственный, созданный нами же, мир искусства, в котором можем мы почувствовать себя людьми в образе и подобии Божьем.
Существует выражение «наслаждение искусством». Но в чём же конкретно заключается это наслаждение, что именно чувствует человек, создающий или воспринимающий произведение искусства? Поддаются ли вообще описанию ощущения, вызываемые чувством искусства? Попробуем подойти к вопросу с другой стороны.
Попытаемся представить себе, что испытывает искренне верующий человек, обращаясь к Богу во время молитвы. Или человек, познающий мир, обретающий новое знание усилиями своего разума, и вообще – человек, открывающий – для людей или хотя бы для самого себя – нечто совершенно новое, необычное в любом творимом им деле. Я думаю, что многие, очень многие, иногда даже и противоречивые чувства может испытывать тогда человек: удивление и восхищение, трепет и потрясение, экстаз, счастье или ужас, жажду и постижение истины, приобщение к справедливости, раскаяние и надежду, возвышение над миром и собственной природой, желание сближения и слияния с тем, что вне и выше нас. Переживание – в религиозном или научном познании – хотя бы части этих чувств освобождает человека от одиночества, выводит его из тюрьмы собственного «Я».
Примерно то же самое происходит с человеком и когда он соприкасается с искусством. Это смутно осознаваемое самим человеком – врождённое ли, воспитанное ли – чувство возвышения в себе духовного начала и есть то, что, в частности, можно назвать чувством искусства. Мы говорим «в частности», потому что в устремлённости к Богу, в радости научного познания и в наслаждении искусством есть нечто глубоко общее. Разве все эти страстные желания человечества не выражются, в конечном счёте, в безграничной любви? Любви к миру, лежащему вне нас, и к миру, создаваемому нами самими – каждым отдельным человеком и всем человечеством вместе; любви к другим людям и, особенно – к тем немногим, близость к которым нам предназначена судьбой. Именно любовью, человеческими пристрастиями всё начинается и всё заканчивается – в религии, в науке, в искусстве. Вспомним бессмертный миф о Пигмалионе: творчески познавая мир, человек своим искусством высвободил красоту из бесформенного камня; преклонение перед этой, рождённой им самим, красотой пробудило в человеке любовь и надежду, а его вера в собственный гений и в могущество богов оживила бездушный камень, который на любовь ответил любовью…
Мир религии дан нам для души, мир науки – для разума, а искусство – оно ведь для всего этого вместе. Религия может быть нашей верой, Наука остаётся нашей надеждой, Искусство же есть наша вечная любовь.
2005
ЛИТЕРАТУРА
- П.Таранов. Философский биографический словарь, иллюстрированный мыслями. М., «ЭКСМО», 2004.
- Живая Тора. Пятикнижие Моисея. Перев. на англ. А.Каплана, перев. на русск. Г.Спинаделя. Нью-Йорк – Иерусалим, издательство Мознаим, 1998.
- И.Гарин. Что такое этика, культура, религия? М., «ТЕРРА – Книжный клуб», 2002.
- Н.Гумилёв. Шестое чувство. В кн.: Н.Гумилёв. Стихотворения и поэмы. Л., «Советский писатель», 1988.
- Г.Синило. Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета). Минск, Издательский центр «Экономпресс», 1998.
- Н.Бердяев. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. В кн.: Н.Бердяев. Смысл творчества. М., «Фолио», 2004.
- П.Чаадаев. О зодчестве. В кн.: Цена веков. М., «Молодая гвардия», 1991.
- В.Набоков. Пушкин, или Правда и правдоподобие. В кн.: В.Набоков. Как я люблю тебя. М., «Центр – 100», 1994.
- Великие мыслители ХХ века. М, «Мартин», 2002.
- А.Маркович. На пути к абсолютной морали. «Вестник», №№ 15 (326), 16 (327), 2003. Балтимор, Мэриленд.
11. Г.Горелик. Логика науки и свобода интуиции. «Апраксин Блюз» («Инверсия»), № 10/18, 2002. Монтерей, Калифорния.
- Г.Горелик. О чувстве прекрасного, или Физико-этические проблемы мироздания. «Апраксин Блюз» («Регистры риска»), № 12, 2004, Arroyo Seco, California.
- И.Авербух. О художественном мышлении в политике. «Новый век», 2 (8), 2004. Иерусалим – Москва.
- Литература агады. Иерусалим – Москва, «ДААТ» / «Знание», 1999.
- Библия. Книги Священного Писания, канонические. Chicago, IL, 1990.
- Коран. Перев. И.Ю.Крачковского. М., издание НПО «Вектор СП», 1990.
- К.Эррикер. Буддизм. Перев. с англ. М., «Фаир-пресс», 2002.
- П.Кропоткин. Этика. М., Издательство политической литературы, 1991.
- Энциклика папы Иоанна Павла II «Вера и разум». М., издание францисканцев, 1999.
- Д.Глейк. Хаос: создание новой науки. Перев. с англ. СПБ, «Амфора», 2001.
- Великие мыслители о великих вопросах. Современная западная философия. Перев. с англ. М., «Фаир-пресс», 2001.
- М.Качурин. Школа Юрия Михайловича Лотмана. «Вестник», № 5 (368), 2005, Балтимор, Мэриленд.
- В.Нузов. Сергей Юрский: В театре жизнь выражается самой жизнью. «Вестник», № 3 (366), 2005, Балтимор, Мэриленд.
- Е.Манин. В джунглях искусства. «Seagull», № 5 (40), 2005, Филадельфия, Пенсильвания.
- Л.Гумилёв. От Руси к России. Очерки этнической истории. М., «Экопрос», 1992.