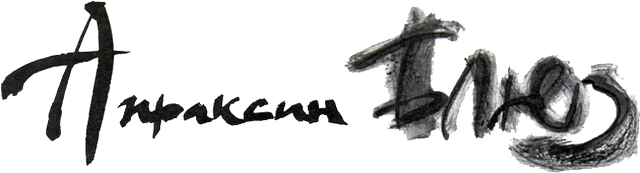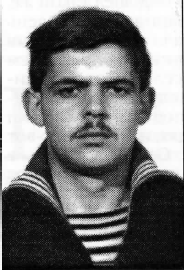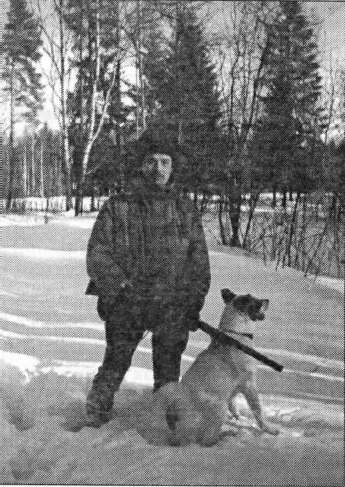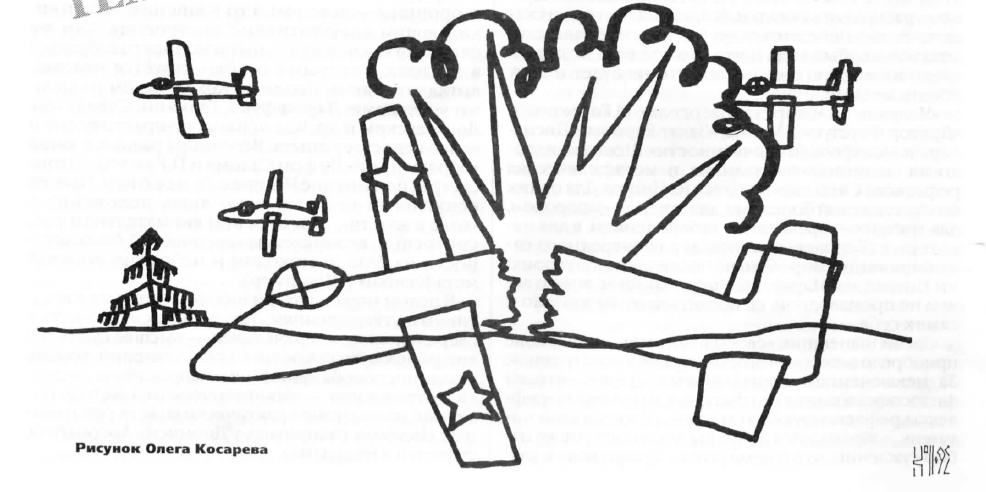Перевод с английского
Роберт Бакай – автор ряда произведений, среди которых цикл рассказов о Детройтском бунте 1967 года и о
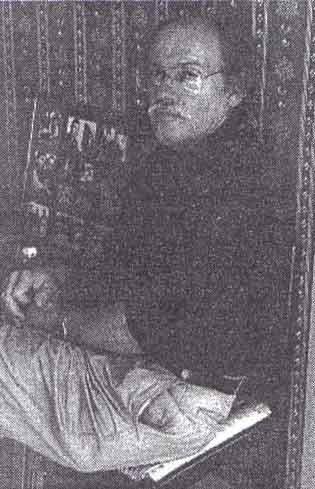
Пуэрто-Рико. Сейчас Р.Бакай работает над романом об Эдварде Мунке. Его статьи о современной литературе, живописи и кино опубликованы в различных журналах.
На последних минутах фильма Александра Сокурова «Мать и сын» экран темнеет, мы слышим пение птиц, шелест ветра в деревьях, отзвук прерывающегося гула локомотива, затихающий вдалеке. Одновременно мы внезапно начинаем осознавать звуки покашливания в зале, скрипа стульев и наше собственное дыхание. Никто ничего не говорит, и молчание ощутимо глубоко, как наше внутреннее молчание. В этой тишине мы знаем, что эта тишина есть; мы знаем, как она чувствуется, когда нет ничего, что следовало бы за ней.
В фильме сын ухаживает за умирающей матерью. Он прибирает дом, готовит, читает ей вслух, разговаривает о её прошлом, сообщает о старых друзьях, как будто этот его приезд ничем не отличается от любого из предыдущих.
Но оба они знают, что это его последнее посещение, и всё наполнено сознанием смерти. Когда он предлагает ей прогуляться по лесу, это означает, что ему придётся нести её на руках. Она рассказывает о своих старых фотографиях и открытках, и в её словах содержится недоумение: Я НИКОГДА НЕ СМОГУ ПОНЯТЬ ВСЁ ЭТО. НЕУЖЕЛИ ЭТО ВСЁ, ЧЕМ БЫЛА МОЯ ЖИЗНЬ?
Чего бы ей хотелось поесть? Не хочет ли она отдохнуть? Выйти на улицу? Вопросы насыщены оттенками конца. Любовь не может быть высказана, потому что в этот момент говорить о любви значит говорить о смерти. Но любовь есть в каждом действии и месте, в том, о чём не говорят слова, в том, что означает молчание – так как больше не будет возможности, помимо этой.
После её смерти он ощущает себя покинутым в осени, которая и сама покинута медленно удаляющимся из пейзажа поездом. Солнце светит, ветер веет, птицы поют, и он один.
Все фильмы Сокурова – о смерти, об умирании, о прошлом, о том, что потеряно, и их траектория всегда обрывается в момент, когда мы испытываем абсолютное одиночество. «Второй круг» – о смерти отца, «Дни затмения» – о самоубийстве. Действие фильма «Камень» разворачивается, похоже, в музее Чехова. Происходит дискуссия между молодым смотрителем и человеком постарше (сам Чехов?). Фильм «Тихие страницы» возвращает нас в Петербург Достоевского. «Восточная элегия» уносит в деревню на японском острове, чтобы показать, как старые люди, живущие там, относятся к приближению смерти. В «Духовных голосах» музыка Моцарта сопоставляется с опытом афганской войны.
«Спаси и сохрани» – известнейший из фильмов Сокурова на западе. Есть его адаптация «Мадам Бовари». И, если это фильм о любви или о том, что выдаётся за любовь, тогда смерть всегда рядом – в стремительном безрассудном бегстве от той смерти, какой стала жизнь героини, к романтическому осуществлению настолько абсолютной степени требований, что самоубийство почти всегда превращается в зазывающую возможность после неизбежной неудачи любви. («Смерть, – напоминает нам Уолтер Бенджамин, – есть законная санкция всего, что повествователь может рассказать»).
Бессмысленные повторения ежедневного режима, которые мы перестали замечать, которые считаем тривиальными и несущественными, которые стали значением наших жизней.
В фильме «Круг второй» сына скончавшегося отца поглощают распри с гробовщиком, бесконечные вопросы чиновников того или иного рода, обмывание тела, протаскивание наклонённого гроба по лестнице, которая на это не рассчитана. И всё происходит на фоне неумолкающего радиоприёмника. История наших жизней – не сказочно-условный сюжет. Сокуров говорит об этом так, как он может – снимая вуаль искусства. В этом смысле повествование не содержит истории, и само отсутствие сюжета есть тот сюжет, который мы должны понять. Тишина в финале «Матери и сына» звучит в наших умах, как последний момент на Земле и как первый.
Фильмы Сокурова кажутся незавершёнными, нерешительными, иногда почти неумелыми. Они пренебрегают обычными кинематографическими приёмами. Звуковое сопровождение не всегда скоординировано, свет выглядит неестественно, образ неотчётлив, иногда искажён или, как в финале «Матери и сына», просто отсутствует. Всё урезано, отставлено. В фильме «Камень» паузы в разговорах длились так долго, что когда персонаж наконец что-то говорил, зрители начинали смеяться. Недоверие Сокурова к самой форме кино настолько глубоко, так основательно – недоверие, рождённое предельным знанием – что единственный способ снимать фильмы честно и чисто есть воздержание от художественных приёмов отделки и шлифовки. Здесь решающим становится именно отсутствие обработки. Сокуров использует камеру для выражения того, что она не предназначена выражать, открывая таким образом пространство невозможному.
Всё серьёзное, как провозглашает модернизм, воздерживается от искусства. Уходит или за него, или под него, или в сторону. Модернизм подчеркнул случайное, спас частное, централизовал крайнее. Пример тому: Эйнштейн и Хайзенберг, мировой капитализм и массовое производство, машина, самолёт, газеты, радиоприёмники. Фотография вызвала к жизни и одновременно создала новые возможности для живописи, подобно тому, что сделало кино для романа. Не случайно Сокуров оглядывается на Флобера, Достоевского, Чехова, прошлое, смерть. Практика Паунда, Тарковского, Элиота имела целью сделать всё новое возвращением к старому. Тёмный экран в финале «Матери и сына» есть указание: фильм начинается там, где кончается кино.
Соблазнительно принять во внимание мысль, что средства кино используются Сокуровым для того, чтобы уподобить фильм роману: «Фильм есть дитя литературы, а не её отец. Он никогда не сможет заместить бесшумный и частный диалог между читателем и книгой.»