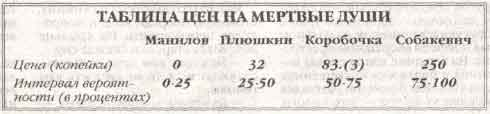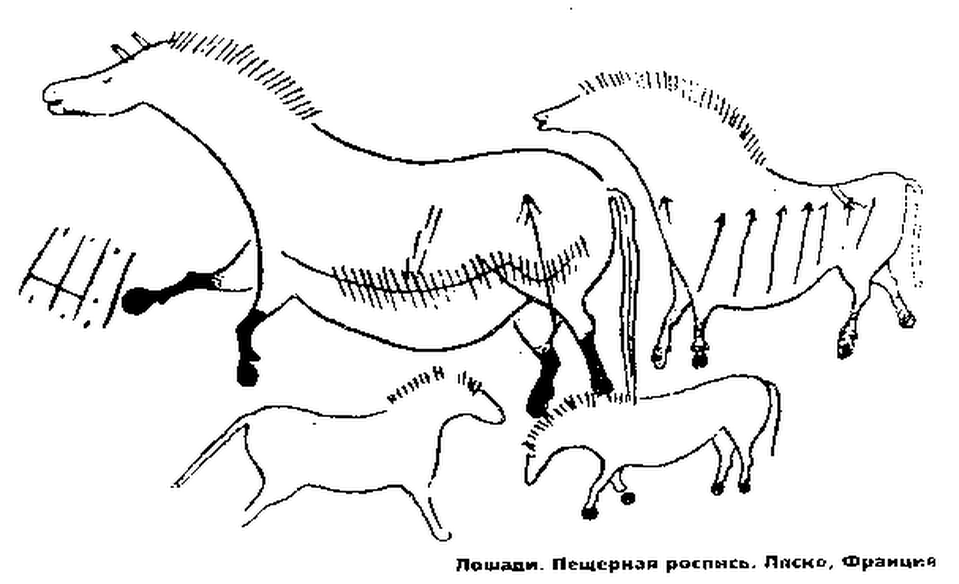Стоит напомнить, что речь идет не просто о газете. «Апраксин Блюз» — явление во многом исключительное, опровергающее привычные представления (о средствам массовой информации, в частности) и правила. К нашему изданию нельзя подходить с обычными мерками. Чтобы его оценить, необходимо учитывать качества, присущие ему одному.
— К примеру, среди наших постоянных читателей немало тех, кто вообще никогда не берет в руки никаких газет и с трудом припомнит два-три наиболее ходовых названия.
— Концепция газеты в корне разнится от прочих. При том, что в газете нет и тени оригинальничанья, она по сути своей неповторима и неподражаема — как самостоятельная мысль или как произведение искусства. Этим же определяется и то. что у нас нет и быть не может конкурентов.
— Нам повезло бесконечно: нам посчастливилось создавать то, чего никогда не было. Мы занимаемся уникальным делом — сегодня, когда характер и принципы газеты вполне определились, можно утверждать это, опираясь на пройденный опыт н на факты. След в истории нам обеспечен. Это значит, что мы должны быть особенно требовательны и даже придирчивы — в первую очередь к себе, конечно.
— В определенном смысле можно считать, что «Апраксин Блюз» — сенсационное издание. Это относится не только к необычности его основы. Каждый номер газеты почти сплошь состоит из сенсаций.
— Прежде всего, это исключительио первые публикации, это абсолютно не газетный стиль изложения: «Апраксин Блюз» полностью лишен журналистских штампов, которые, кажется, уже перестали усваиваться сознанием и способны выхолостить суть самых нетривиапьных сообщений или мнений.
— Еще одна своеобразная черта — то, что иностранные корреспонденты пишут по-русски, что сохраняет специфику и образность родной для них культуры. То, что газета старается не допускать стилистических и рамматических небрежностей, тоже не лишним будет отметить.
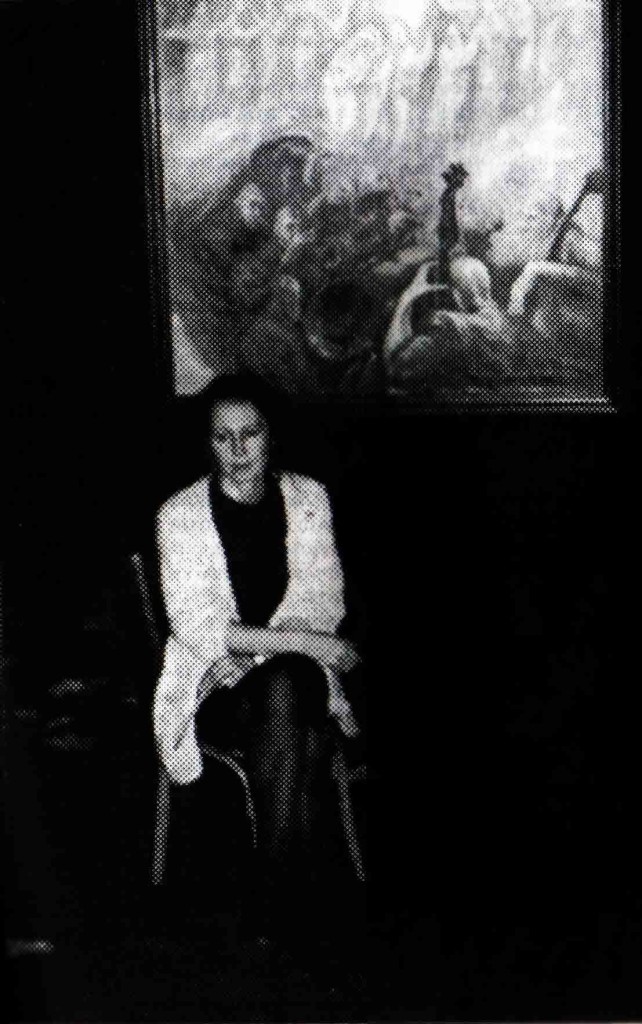
— Кроме этого, каждый номер содержит материалы, которые с полным правом могут быть отнесены к разряду ярко выраженных сенсаций — причем сенсаций, не подверженных ни старению, ни опровержению. В качестве примеров за прошедший год можно привести следующие: ошеломляющие выводы археолога о происхождении человеческой мысли (Г.П.Григорьев, «Рождение мысли», N“3), смелую трактовку ученым личности Сократа (Н.В.Серов, «Цвета Сократа», «Человек Сократа», №4, 5 ), блестящие переводы: одного из ранних парижских рассказов Генри Миллера («Улица Лурмель в тумане», пер. Л.Житковой, №3) и подборки миниатюр Петера Альтенберга («Как я это вижу», пер. Г.Снежинской, №1). В последнем, шестом, номере укажу на впервые публикуемую фотографию реконструированной египетской лютни 2 тыс. до н.э. (В. Мешкелис, «Музыка из глубины веков на Кипре»). Я бы с удовольствием продолжила список — достаточно открыть любой номер газеты…
— Действительно, мы все время ищем и отбираем самое лучшее (и обязательно из первых рук). Учитывается и ценность самого предмета, и самостоятельность суждения, достоверность, литературные достоинства. Свою «изюминку» содержит каждая публикация, при этом их обилие не утомляет: сложность и профессиональная глубина одних уравновешивается скромностью и доверительностью других. Чувство меры не позволяет игривости перейти в заигрывание, а серьезности — стать напыщенной. Ничто не кричит о себе, во всем есть качество искренности и доверия. Есть простота, но нет посредственности. — Конечно, «Апраксин Блюз» — блюдо для гурманов. Мы сами гурманы, поэтому и читателям предлагаем тщательно отобранные и приготовленные для них «сливки», редкости — предлагаем разделить радостное изумление от находок, среди которых попадаются настоящие шедевры. «Апраксин Блюз» неустанно составляет растущую коллекцию редкостей, которую собирает для своих читателей.
— Это и есть основа газеты, ее фокус. «Апраксин Блюз» — это прежде всего разговор человека с человеком, в котором нами руководит чувство уважения к собеседнику. Мы любим всех своих читателей и не сомневаемся в их способностипонимать и ценить то, что представляется достойным интереса нам самим. К общению с читателями мы относимся очень серьезно: в газете нет ни одной дешевой строчки. От первого слова до последнего это полноценный литературный текст. Должно быть, именно этйм вызваны ошибочные обвинения в снобизме. Однако мы никогда не питаемся навязать свое мнение или пустить пыль в глаза.
— Газета представляет развернутый диапазон интересов, не противопоставляя их друг другу, не сталкивая лбами. «Апраксин Блюз» дает практическую схему нового принципа внутренней компоновки периодического издания. Более того: в этом можно видеть новую модель организации сознания, за которой открывается большое будущее. В этом смысле «Апраксин Блюз» начинает новую эру, создает ее законы и сам развивается в соответствии с ними.
— Творческий метод газеты — хорошо подготовленная спонтанность. Каждый номер дает свой ракурс, концентрируя впечатления в одном общем образе. В этом та есть мудрая простота, которую трудно объяснить. Комбинация отдельных фрагментов образует самостоятельный организм.
— Поэтому развитие и проходит в соответствии с природным циклом. Оно имеет фазы качественных изменений которые не всегда просто прослеживаются, но всегда тщательно подготавливаются — исподволь и заранее. Это внутренний процесс, в нем нет ничего случайного, все части целого имеют свое место и все связаны между собой.
— Издание имеет ярко выраженный индивидуальный характер — его невозможно спутать ни с одним другим. За год газета усовершенстовала свою форму, она имеет узнаваемый продуманный облик; определился также его оптимапьный объем и установился наиболее оправданный тираж (в соответствии с характером программы). Сложился и постоянный круг читателей.
— «Апраксин Блюз» читают не только в Петербурге. Мы получаем письма из самых экзотических мест, а, например, в Токийском Университете газету используют в учебном процессе при обучении русскому языку.
— С другой стороны, «Апраксин Блюз», вне всяких сомнений, продолжает культурную традицию Петербурга в самом явном виде. Это выражается в свойственных культуре нашего города акцентах, ракурсах обостренного интереса,системе ценностей.
— То, что газету иногда называют «салонной», справедливо разве что в том смысле, что она вполне сравнима с содержательной беседой, в которой участвуют люди, хоть и незнакомые между собой, но интересные друг другу. Часто этот интерес впоследствии приводит к действительному знакомству, так что «Апраксин Блюз» в самом деле соединяет не только на своих страницах.
— Важно то, что соединение это никак нельзя назвать формальным, оно происходит на общей основе, которая роднит всех: это наглядно демонстрирует и подбор материала в газете — здесь нет постоянных рубрик, это не библиотека, где знания — по разделам. И от авторов мы ждем того, чем могут пренебречь другие издания. Главным здесь назову градус отношения. :
— Любые придирки к газете (редкие, надо признать, — в основном к ней относятся очень н очень хорошо) вызваны, на мой взгляд, только излишней привязанностью к привычным формам, некоторой растерянностью из-за невозможности отнести «Апраксин Блюз» ни к одному из известных разрядов.
— Неординарность газеты выражается и в том, что она не ограничивается сугубо издательской деятельностью, а проводит свою политику в самых разнообразных формах. Так, в течение прошедшего года «Апраксин Блюз» провел не знающий аналогов фестиваль творческих созвучий «Мартовское соло», участвовал в организации и проведении отдельных концертов, внес свои предложения и представил широкий спектр оригинальных проектов на Всероссийском форуме «Невостребованная оссия», выпустил тираж аудиокассет с записью мужского хора ИПК «Валаам».
— Сейчас, когда работа по выпуску газеты в определенной степени, наладилась, мы параллельно готовим к осуществлению целый список фантастически интересных и ни на что не похожих проектов.
—Любой вид работы в газете способен доставить большое удовольствие. И это — высшая форма удовольствия. Временами это дает ощущение полного счастья и сполна окупает неизбежные тяготы и потери. Мне хочется всех пригласить испытать радость творчества вместе с нами. «Апраксин Блюз» — не тайное общество и не закрытый клуб. Места хватит и для новых авторов, и для новы хдрузей и сотрудников.
— Это действительно творчество — в полном смысле слова. Мы дорожим тем, что мы делаем. К тому же это работа, которая стоит очень дорого — и это необходимо сознавать. Вот так, и по большому счету, и определяется место газеты: в этом смысле она действительно является откровенно элитарным, коллекционным изданием, беспрецедентным и труднодоступным. В какой-то степени встреча с ней может расцениваться, как знак судьбы. Справедливость этого утверждения подтверждается примерами.
— У всех, кто так или иначе связал себя с «Апраксиным Блюзом», рождается совершенно особое к нему отношение. Не значит ли это, что постепенно наступает эпоха ВСЕОБЩЕГО БЛЮЗА?
— Мы работаем на будущее и отдаем себе полный отчет в важности этого дела. Оно требует и жертв, и готовности к риску, но оно их стоит. Никто не ждет от него личной выгоды, и никто на нем не наживается. Трудно поверит, но этот «Апраксин Блюз» девственно чистый от малейших коммерческих признаков, не только не сдается, но и разворачивается со все большей мощью.
— Мы ничего не просим и не требуем (уважая всего самоценность данной нам возможности), но всем, кто так или иначе вносит свой благородный вклад в наше общее дело, поддерживая и развивая его, «Апраксин Блюз» безмерно признателен и благодарен.
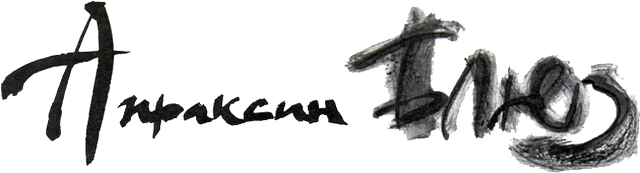



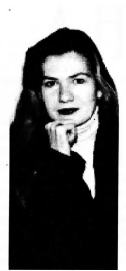
 Это в порядке вещей: что- то родилось, расцвело, отцвело и умерло; по этому поводу можно, конечно,сказать «увы», а можно сказать —«возрадуемся», но никак нельзя делать удивленную и трагическую мину, вопрошая «Где же?» и «Доколе…?». Пилюля, конечно, горька, и еще не известно, от какой она болезни, но лучше все же проглотить эту дрянь самому, чем дожидаться, пока жизнь силой вобьет ее тебе в глотку. Если у нас когда-нибудь появится талантливый автор, он появится в среде беллетристов, а не так- называемых писателей, он будет ремесленником, а не боговдохновленным пророком. Лишенный возможности стать в позу учителя, он никого не ослепит фальшивым мессианским пафосом. Не испепеляемый жаждой навязывать правду, он не унизится до чудовищной лжи. Не сея свет, он не посеет тьмы. Он будет автором новых форм, он поднимет чтиво до уровня искусства, не пытаясь превратить чтиво в литературу. Разумеется, он будет писать только «из денег», но его работа будет игрой, а не производством. Зная, что он играет, никто не почувствует себя обманутым, — ведь несбыточных надежд нет гам, где нет надежд вообще. И… что еще? Он будет жить долго и счастливо, не получив ни одной премии, н умрет в «самом простом домике на берегу моря», окруженный друзьями, собаками, лихими красавицами и старыми книгами, о которых даже не подозреваютего собственные читатели. В словарях и на скрижалях его имени не останется.
Это в порядке вещей: что- то родилось, расцвело, отцвело и умерло; по этому поводу можно, конечно,сказать «увы», а можно сказать —«возрадуемся», но никак нельзя делать удивленную и трагическую мину, вопрошая «Где же?» и «Доколе…?». Пилюля, конечно, горька, и еще не известно, от какой она болезни, но лучше все же проглотить эту дрянь самому, чем дожидаться, пока жизнь силой вобьет ее тебе в глотку. Если у нас когда-нибудь появится талантливый автор, он появится в среде беллетристов, а не так- называемых писателей, он будет ремесленником, а не боговдохновленным пророком. Лишенный возможности стать в позу учителя, он никого не ослепит фальшивым мессианским пафосом. Не испепеляемый жаждой навязывать правду, он не унизится до чудовищной лжи. Не сея свет, он не посеет тьмы. Он будет автором новых форм, он поднимет чтиво до уровня искусства, не пытаясь превратить чтиво в литературу. Разумеется, он будет писать только «из денег», но его работа будет игрой, а не производством. Зная, что он играет, никто не почувствует себя обманутым, — ведь несбыточных надежд нет гам, где нет надежд вообще. И… что еще? Он будет жить долго и счастливо, не получив ни одной премии, н умрет в «самом простом домике на берегу моря», окруженный друзьями, собаками, лихими красавицами и старыми книгами, о которых даже не подозреваютего собственные читатели. В словарях и на скрижалях его имени не останется.