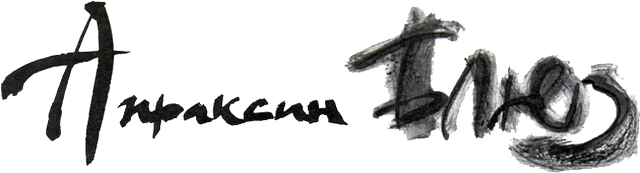Прелести Парижа я готов расхваливать бесконечно. На сей раз, однако, у меня есть возможность показать город в совершенно неожиданном ракурсе. Перед нами Париж, глубоко парализованный длительной всеобшей забастовкой.
Известен прецедент мая 1968 — года, рокового во многих отношениях. Тогда интеллигенция и студенческая молодёжь практически целый месяц в жестоких столкновениях с полицией боролись против правительства за эмансипацию нравов.
Теперь, спустя двадцать семь лет, конфликт проходил довольно мирно, несмотря на значительный ущерб, нанесённый экономике. Забастовка возникла по инициативе профсоюзов, которые подняли рабочих и служащих государственного сектора.
Поводом стали социальные реформы премьер-министра Алэна Жюппе. Не вижу смысла обсуждать здесь политические стороны события — как обычно, они выглядят слишком запутанными — или всегда болезненные негативные последствия. Интереснее взглянуть на происшедшее с оборотной стороны, памятуя о том, что «нет худа без добра».
Попробуйте представить себе такой крупный город, как Париж, лишившимся в один миг каких-либо видов общественного транспорта: ни метро, ни автобусы, ни поезда не передвигаются по Франции; к тому же не функционирует и почта.
Шок, гнев были первой реакцией парижан и жителей пригородов, работающих в Париже (особенно в частном секторе), которые и в обычные дни тратят немало времени на дорогу — час, два. А как же! Нарушилась ежедневная рутина мирных людей, привыкших к размеренной жизни, которую принято резюмировать приблизительно так: «метро, було, додо» — то есть метро, работа, сон.
Однако стадия бессилия очень скоро уступила место так называемому «периоду адаптации», в течение которого каждый должен был разработать свою личную «систему У» (умудрённости) — изобрести способ добираться до работы в новых условиях. Среди способов передвижения самым простым и самым полезным является, конечно, ходьба. Воспользоваться этим может каждый, живущий в черте исторического Парижа, всю территорию которого нетрудно обойти примерно за два-три часа.
Тому, кто ленится ходить или не может обойтись без комфорта, а, возможно, и живёт подальше, в пригороде, следует прибегнуть к автостопу. Правда, поездка на машине из-за пробок займёт в этом случае не меньше времени. Что ж! Если уж опаздывать, так хоть в тепле!
Здесь надлежит особо подчеркнуть солидарность, проявленную по отношению к согражданам-пешеходам столичными автомобилистами, которые всегда любезно соглашаются подбросить попутчиков.
Наиболее впечатляющую картину создаёт, пожалуй, армия горожан, штурмом берущих улицы Парижа на роликовых коньках, мотоциклах и, чаще всего, на велосипедах (кстати, за первые дни забастовки продажа велосипедов выросла на двести процентов).
Им всё дозволено, их ничто не остановит: ни одностороннее движение, ни красный свет светофора, ни полицейские. Они, как слаломисты, просачиваются между машинами, могут подняться на тролуар или сойти с велосипеда, чтобы спокойно перейти улицу. А когда перекрёстки забиты машинами, эти счастливчики с плохо скрываемой насмешкой беспрепятственно двигаются вперёд.
На вопрос о том, как он переживает события, один велосипедист ответил: «Наконец-то я увидел свет — раньше всё время приходилось ездить в метро!»
Создавшаяся в итоге незаурядная обстановка абсолютно вышла за рамки повседневности, придав городу некоторую экзотичность, а жизни — своеобразную, близкую к абсурду ценность, парадоксально-привлекательную, несмотря на неудобства. Причина этого, возможно, в обострённом чувстве людей, попавших в один котёл.
Удивительное терпение проявляют те, кто незаслуженно страдает от забастовки, и, если спросить, как они относятся к забастовщикам, часто можно услышать следующее: «У них есть право на забастовку, они этим правом и пользуются». Директора фирм сами разносят почту, а некоторые из них, чтобы не тратить время в дорожных пробках, раскатывают, солидно одетые, на велосипедах или даже, были случаи, на самокатах с моторчиком.
Что же до туристов, всегда наводняющих Париж, их поток, конечно, заметно уменьшился, особенно после того, как к забастовщикам присоединились диспетчеры аэропортов. Все это пошло только во благо тем, кто успел оказаться в городе: во-первых, по Парижу передвигаться нужно только пешком, а во-вторых, и это очень важно, посетителей музеев сильно поубавилось. К тому же появилась возможность бесплатно покататься по Сене, благодаря правительству, пожалевшему граждан и мобилизовавшему туристическое пароходство для транспортного сервиса на Сене, так же как частные автобусы — в городе.
Раз в два-три дня зачинщики забастовки организуют крупные демонстрации с антиправительственными плакатами, трубами и бенгальскими огнями. Демонстрации проходят в общем веселье, с рок-н-ролльными танцами и уличными грилями.
Вдобавок всё это — накануне рождественских праздников, когда город уже оделся в праздничный наряд, температура воздуха около нуля (здесь это считается сильным холодом) и время от времени с неба падают редкие снежинки, упорно не желающие задерживаться на земле.
Но вот, наконец, наступает уже четвёртая неделя, и забастовка постепенно близится к концу: правительство пошло на серьёзные уступки, а между профсоюзами тем временем возникли разногласия. Движение транспорта постепенно восстанавливается, и Париж возращает себе нормальный облик — пора серьёзно готовиться к праздникам.
А теперь спрашивается, кому всё-таки нужен был этот «опыт»? Конечно же, не Франции. Ещё меньше предприятиям — приблизительно восемь миллиардов франков утеряны навсегда. Получается, что полезно это могло быть только людям, которых непривычные условия сблизили: на демонстрациях, в кафе, где проходили оживлённые дискуссии, в речных трамвайчиках под голос помощника капитана, проводившего специальные экскурсии.
Одним словом, события пошли на пользу людям, которым хочется изменить жизнь, освежить обстановку, которые рады разрушить скуку, окунуться в сильные впечатления и, в конце концов, помечтать об идеальной сказочной стране…