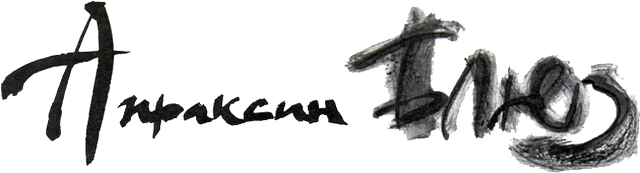.
.
.
Ритуал – важная вещь в жизни японцев. В том числе, когда они садятся за стол. Поговорю-ка я о наших застольных ритуалах.
Главный из них – это обращение «итадакимасу» перед едой и «точисо сама десита» – после нее. Первое можно перевести, как «я принимаю с благодарностью», а второе, как «спасибо за угощение».
Словом, и то и другое – «спасибо». Очень важно знать, что форма этих обращений должна быть вежливой, так как они употребляются в нашем языке для выражения смирения перед тем, к кому обращаешься.
Должна признаться, мне до сих пор не вполне понятно, к кому именно это относится. Мое личное мнение, без каких-либо историко-лингвистических обоснований, что обращение относится частично к хозяйке, подающей угощение, частично к богам-предкам и частично к крестьянам, которые выращивают рис.
По-японски завтрак, обед и ужин обозначаются одним словом, которое имеет значение «рис». Нас с детства учили доедать все до последнего зернышка в пиале, говоря: нельзя выбрасывать рис, ведь крестьяне сеют его, молясь: «Одно семя в тысячу, другое семя – в десять тысяч»!
Кстати, мне недавно пришло в голову, что эту молитву можно понимать и как проявление жадности крестьянина.
Но важен тот факт, что результат молений попадает к нам на стол, и, стало быть, молятся в конце концов ради нас, поэтому надо быть благодарными, не правда ли?
Так что если вам когда-нибудь придется сесть за стол у японцев, как бы вы ни были голодны, подождите хотя бы, пока другие произнесут «итадакимасу», если вы сами не можете сказать эту фразу, сложив, желательно, ладони. После этого можно к бою!
Едят у нас, естественно, палочками. Между прочим, точно так же ел Гэндзи (герой «Повести о Гэндзи» IX века). Когда я училась в высшей школе, у нас был отличный учитель мировой истории. Как-то речь зашла о появлении во Франции столовых приборов, и он сказал: видите, в наши дни все так придирчиво относятся к соблюдению французского этикета, а при этом сами французы, можно сказать, довольно дикие в этом отношении. К тому времени, когда они изобрели вилки, мы давно привыкли пользоваться палочками!
Это высказывание всегда вызывает у меня чувство признательности и уважения к родине, когда я, как и другие японцы, чувствую неуверенность в себе при упоминании о Европе. Действительно, во время коронации, при строгом соблюдении древнейших традиций, существует обряд, в котором новый император подносит богам поднос с едой и палочками. Этот обычай, наверное, сохранился с самых древних времен. Хотела бы я знать, когда он появился!
Пользоваться палочками надо уметь. Японские дети начинают есть ими лет с двух. Мой племянник сначала ел синей детской ложечкой, но скоро перешел на голубые палочки с изображением героев мультфильма. Одновременно он осваивает многочисленные правила, связанные с употреблением палочек: «нельзя капать», «нельзя их лизать», «клади их на стол, когда жуешь, не клади поперек пиалы или тарелки», «нельзя размахивать ими или указывать на что-нибудь», «ни в коем случае не втыкай столбом в рис» (потому что так подают только покойникам).
В общем, требования к обращению с палочками примерно аналогичны тем, что существуют для обращения со столовыми приборами у европейцев. Однако будьте внимательны с посудой. То, что подается в пиалообразной посуде, надо есть, держа посуду в руке. Рис и мясо-суп всегда надо подносить к себе. То же касается всех жидких блюд, присутствующих на столе. Еду надо уметь донести до рта спокойно и красиво, пользуясь палочками, которые совершенно на это не рассчитаны. Не ленитесь, берите посуду в руку и начинайте есть, не нагибаясь и не чавкая.
Что касается чавканья, у нас тоже есть свои тонкости. На словах к нему относятся так же, как и в России. Но при этом, знаете ли, чай пьется в Японии со звуком, как если бы он был слишком горячим, хотя заваривается он у нас на остывшей воде. В позапрошлом году мы с другом смотрели детектив во время фестиваля японских фильмов, который проходил в «Молодежном». Фильм был очень серьезный (своего рода японский «Штирлиц»), и вдруг главный герой громко прихлебывает чай! Зал грохнул от смеха так, что я испуганно дернулась. А у нас к этому давно привыкли. Со страшным звуком мы едим также лапшу – китайскую, пшеничную и гречневую, и даже итальянские спагетти. Это ведь дело привычки. В последнее время молодые стараются есть сравнительно тихо.
Манера громко есть объясняется довольно просто. Представьте себе какого-нибудь японца или меня, японку. Передо мной – готовая лапша в рыбном бульоне с сакэ, сахаром и соевым соусом. В руке у меня (кстати, я левша) палочки, которые не способны захватить или намотать вокруг себя эту длинную лапшу. Поэтому я беру палочками только несколько штук, поднимаю до уровня глаз и захватываю концы ртом. А остальную часть без стеснения втягиваю в себя, производя при этом необходимый шум.
Интересно, что у чавканья есть своя идеология: оно вошло в обычай, как насмешка среднего сословия над изнеженностью аристократов или самураев, готовых умереть со стыда, допустив такую грубую вещь, как чавканье.
Теперь я должна сказать несколько слов о том, как рассаживать гостей (вдруг вам понадобится принять клиентов из Японии!). Лучшим считается место, самое удаленное от входа. Если хозяин, принимая гостей, сам сел на это место, значит он безграмотный нахал. Если же вас приглашает за стол старший, то на всякий случай не спешите садиться за стол сразу, пусть вам прямо укажут на место для гостей. Разок откажитесь для приличия, а потом можно садиться. Главное – быть скромным!
Все это мне привычно до мозга костей. Есть, правда, одна деталь, которую никак не могу себе объяснить. В японской комнате национального стиля на самом престижном месте приходится сидеть спиной к «токо-но-ма» – углублению в стене, где вешается обычно японская или китайская картина или ставится ваза с цветами. И ты, дорогой гость, сидишь и не видишь украшения в его откровенно-традиционном виде. Не кажется ли это странным?
РЕЦЕПТЫ
Чай заваривают так:
1. Вскипятите воду.
2. Вода должна прокипеть минуты три (тогда она не будет отдавать химическими веществами).
3. Перелейте воду в заварной чайник, а оттуда разлейте по чашкам.
4. Теперь в пустой заварной чайник положите чай и сверху залейте водой из чашек.
5. Закройте чайник крышкой и слегка потрясите его, чтобы листья осели.
6. Наконец, разлейте воду в чашки. Не выкидывайте из чайника листья, потому что второй чай – самый вкусный (кстати, в Китае, говорят, первый чай вообще выкидывается из-за горечи).
Для такой заварки обязательно нужно брать японский чай, китайский заваривается совсем другим способом.
Блюдо из лапши
Используется китайская лапша – прямая, а не та волнистая, которая продается для лентяев прямо с маленьким пакетиком приправ. Для бульона нужен соевый соус, сахар и сакэ (или водка).
Готовим так:
1. Сварить лапшу, как обычно. Старайтесь не переборщить с солью, так как лапша сильно впитывает ее в себя во время варки.
2. Пока лапша варится, приготовьте бульон: прокипятите воду, посолите, заправьте водкой, сахаром и соевым соусом, чтобы бульон приобрел цвет жидкого чая.
3. Положите в пиалу лапшу и заправьте бульоном. Посыпьте мелко нарезанным луком.
Можно для питательности положить сверху кусок поджаренной в муке рыбы или сырое яйцо – в таком случае блюдо будет называться «Лапша для праздника любования луной», где яйцо служит символом полного месяца на ночном небе.
То, что истоки музыки лежат за пределами умопостигаемого мира, никогда и ни у кого не вызывало сомнений. Ее надмирная природа порождала многочисленные попытки описать и объяснить глубинную сущность и происхождение этого древнейшего вида искусства.
В европейской традиции наиболее глубокие корни, что во многих отношениях представляется странным, пустила языческая по своей сути концепция Пифагора, который, как известно, наибольшую часть своих знаний вынес из египетских капищ. Основная идея заключается в осознании мистической связи между высотой звука, длиной струны и числом.
Эксперименты Пифагора на монохорде показали, что образование определенных музыкальных интервалов достигается фиксированным делением длины струны. Числовая пропорция частей, соответствующая октаве, выражается отношением 2:1, кварте — 4:3, квинте — 3:2 и так далее. Эти пропорции, по мнению Пифагора, одинаково применимы как для звучащей струны, так и для космического устройства.
Музыкальный порядок, проецируясь на порядок космический, проявляется в виде musica mundana — МИРОВОЙ МУЗЫКИ. При движении по небу планеты издают звуки вследствие трения об эфир. Протяженность планетных орбит соотносится с длиной струн, образующих консонансное созвучие. Таким образом, вращение небесных тел порождает гармонию в сферах. Мировая музыка не воспринимается человеческим ухом, а постигается посредством интеллектуального созерцания. Musica mundana, согласно пифагорейской системе, является первоисточником всякой физически слышимой музыки — musica instrumentalis.
Пифагор, вдохновляемый МИРОВОЙ МУЗЫКОЙ, создавал произведения, слушая и исполняя которые, его ученики могли постепенно приблизиться к духовному созерцанию небесного совершенства. Третью разновидность представляла в этой системе musica humana — ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МУЗЫКА. Человеку тоже свойственна изначальная гармония, отражающая равновесие противоположных жизненных сил. Гармония в musica humana — это здоровье. Болезнь — дисгармония.
После того, как в шестом веке римский философ и богослов Боэций повторил основные положения музыкальной теории Пифагора, эта система взглядов сделалась главенствующей в западно-европейском музыкознании, и вплоть до семнадцатого века практически каждое серьезное исследование о музыке содержало раздел, в котором музыкальная интервалика проецировалась на космический порядок. Такая практика в некоторых случаях приводила к интересному развитию и давала неожиданные результаты. В качестве примера можно назвать открытие Иоганном Кеплером законов небесной механики, используемых и поныне.
Параллельно, и даже несколько ранее, чем в Западной Европе, в Византии в четвертом-пятом веках, а затем и в России, с момента принятия ею христианства, иная концепция, в силу ряда причин не получившая настолько широкой известности, как система Пифагора, развилась в трудах мыслителей и богословов, таких как Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин. Их взгляд, полностью базируясь на библейской традиции, органически существовал внутри христианского мировозpрения, не вступая с ним в противоречие.
Согласно этой теории, музыка, в форме богослужебного пения, явилась первой акцией сотворенного мира. «В начале сотворил Бог небо и землю» — эти первые слова Ветхого Завета, являющиеся прологом земной истории, по толкованию Святых Отцов знаменуют творение двух основных форм бытия — мира ангельского (небо) и мира материального (земля). Очередность их появления очевидна: первым создано небо, что позволяет говорить о пении, как о первой акции тварного мира, ибо ангелы тотчас воспели хвалу Творцу, и эта присновоспеваемая песнь положила начало всякой музыке.
Отличие от версии Пифагора совершенно очевидно. Вместо бездушных небесных тел, производящих звуки, здесь наблюдается разумное пение бесплотных сил, и причина этого пения — непосредственное созерцание Славы Пресвятой Троицы, побуждающее к непрестанному восхвалению Господа, вызывающее неудержимое желание сообщить благодатные дары этого созерцания всему тварному миру.
Природа ангельского пения может быть уподоблена природе отражения: ангелы не поглощают Божественный Свет, исходящий от Света Первого, но, подобно зеркалам, отражают этот свет вовне. Точно так же и благодать, изливающаяся на ангелов от Престола Божия, не удерживается ими, но по их любви продолжает изливаться на весь мир в виде ангельского пения.
Сопоставляя две приведенные теории в онтологическом плане, можно утверждать, что пифагорейская система есть ничто иное, как обожествление законов и объектов тварного мира, иначе говоря — идолопоклонничество. Это, впрочем, и неудивительно — Пифагор жил в языческой стране.
Продолжив библейскую линию далее, мы видим, что Адам, а затем и Ева вплоть до грехопадения также являлись активными участниками ангельского музицирования, ибо сотворенный человек поначалу не был чужд ангельской природе.
После грехопадения обстоятельства резко изменились: человек, низвергнутый на грешную землю, столкнулся с огромным количеством проблем, для решения которых, в первую очередь для добывания пищи, он вынужден был создавать различные инструменты и приспособления. Однако куда более существенным для первого человека, еще помнившего полноту благодати богообщения, были муки духовные, которые заставляли его наряду с инструментами для добывания пищи создавать музыкальные инструменты, помогавшие хотя бы на время вернуть состояние блаженства, испытанное им в раю.
Это толкование musica instrumentalis также в корне отличается от изложенного теорией Пифагора.
Что же касается musica humana, то у византийских мыслителей мы находим много интересного и на этот счет. Так, Иоанн Златоуст пишет: «Станем же флейтой, станем кифарой Святого Духа. Подготовим себя для Него, как настраивают музыкальные инструменты. Пусть Он коснется плектром наших душ!»
Василий Великий как бы продолжает эту мысль: «Под псалтерионом — инструментом, построенным для псалмов нашему Богу — должно иносказательно разуметь строение нашего тела, а под псалмом следует понимать действие тела под упорядочивающим руководством разума».
Далее богослов пишет: «Музыка есть ничто иное, как призыв к более возвышенному образу жизни, наставляющий тех, кто предан добродетели, не допускать в своих нравах ничего немузыкального, нестройного, несозвучного, не натягивать струн сверх должного, чтобы они не порвались от ненужного напряжения, но также и не ослаблять их в нарушающих меру удовольствиях: ведь если душа расслаблена подобными состояниями, она становится глухой и теряет благозвучность. Вообще музыка наставляет натягивать и отпускать струны в должное время, наблюдая за тем, чтобы наш образ жизни неуклонно сохранял правильную мелодию и ритм, избегая как чрезмерной распущенности, так и излишней напряженности».
.
Свое понимание идеи мессии (по-еврейски «машиах» буквально «помазанник») крупнейший еврейский религиозный мыслитель и ученый Рамбам (1138-1204) сформулировал так: «Я верю полной верой в приход Машиаха и, хотя он медлит, я буду ждать его каждый день. Я верю полной верой, что будет возрождение мертвых, когда захочет того Создатель, благословенно Имя Его и превознесена будет память о Нем во веки вечные».
Слово Машиах, т.е. помазанный елеем, в Библии применялось по отношению к царям Израильского и Иудейского царств, первосвященникам и даже к иноземному царю Киру, а иногда и ко всему народу Израиля.
Окончательно представление о Машиахе как об эсхатологическом избавителе оформилось лишь в конце эпохи Второго храма, то есть непосредственно до и после начала Новой эры.
Но уже у пророков мы видим веру в наступление времен, когда могучий вождь, обладающий земной властью, принесет полное политическое и духовное избавление народу в его земле, а также мир, благоденствие и моральное совершенство всему человечеству.
«И низойдет на него дух Господа, дух мудрости и постижения, дух совета и мощи, дух знания и страха перед Господом. И будет чуять истину посредством страха перед Господом: и не по тому, что видят глаза, будет судить, и не по тому, что слышат уши, будет обличать. И будет судить по справедливости бедных и с прямотой решать дела скромных земли… И будет справедливость опоясывать его, и вера поясом на пояснице его. И будет обитать волк с овцой… и на змеиную нору младенец руку свою протянет…» (Исайя, 11:2-8).
Представления о Мессии и его царствовании варьировались в зависимости от взглядов различных течений в иудаизме. Однако некоторые положения стали общепринятыми.
Мессия – человек, хоть и наделенный определенными сверхъестественными способностями как орудие Божьего промысла, но не как богочеловек христианской традиции. Мессия выйдет из дома Давида, но должен будет доказать свое избранничество делами, тем более, что уже к концу эпохи Второго храма трудно было проследить генеалогию, восходящую к царю Давиду. Есть основания считать, что Мессию называли «сыном человеческим».
В каждом поколении присутствует потенциальный Мессия, который может раскрыться или не раскрыться. Этот человек из дома Давида должен знать и исполнять Писание, побуждать других к его изучению и обсуждению.
Если Мессия раскроется, он принесет Израилю искупление и будет править им до конца времен. С его приходом сбудутся библейские пророчества: Мессия победит всех врагов Израиля, восстановит Иерусалимский Храм и храмовое служение. С ним к народу придет духовное и физическое благоденствие. Некоторые законоучители утверждают, что Мессия не просто выходец из дома Давида, а сам воскресший Давид. Законоучитель Иоханан бен Заккай предсказал приход царя Хизкияху в роли Мессии.
Встречается также имя Менахем бен Хизкиягу, которое должно было стимулировать грядущее «утешение» (Менахем буквально «утешитель»).
Имеются и другие представления о личности Мессии. В ранних источниках не упоминается «страдающий Мессия» – это концепция третьего века нашей эры. Еще позднее страданиям был придан искупительный смысл, хотя и иной, чем в христианской традиции.
Мессия может явиться в смиренном обличии, верхом на осле, или триумфатором, восседающим на тучах. Талмуд приписывает Мессии бессмертие, однако Мессия не заменяет ни Бога, ни Торы (Учения).
В апокалиптической литературе содержится учение о Мессии из колена Иосифа (или Эфраима) – одного из 12 колен Израиля. Он придет прежде, чем Мессия из дома Давида (Машиах бен Давид), будет сражаться с врагами Израиля на его земле и падет в бою. Его называют «помазанником на войну».
Так же, как, согласно Торе, прокаженный должен принести в очистительную жертву двух птиц, так должны прийти два Машиаха. Когда же придет Машиах? Талмуд учит от имени пророка Илии: «Миру существовать шесть тысяч лет. В первые две тысячи был хаос, две тысячи время Торы и следующие две тысячи время Машиаха».
Затем наступит седьмое, или субботнее тысячелетие – мир грядущий. Шестое тысячелетие кончается в 2240 году н.э.
О конкретной дате прихода Машиаха есть разные мнения. В 95 Псалме сказано: «Сегодня, если вы прислушаетесь к его голосу». Отсюда Талмуд учит, что если народ Израиля проведет в рассеянии хотя бы один день, он немедленно будет спасен.
Знаменитый знаток Торы рабби Элияху, прозванный Виленским Гаоном, полагал, что 1740 год о.э. – это начало спасения. По мнению Малбима, возрождение из мертвых, которое будет во времена Машиаха бен Давида, будет не позднее, чем за 37 лет до начала седьмого (субботнего) тысячелетия (то есть не позже 2203 года общей эры).
Любавический Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, недавно скончавшийся руководитель движения ХАБАД, учил, что нынешнее поколение является последним поколением эпохи рассеяния и первым поколением Мессии. Есть и другие мнения.
Пророк Исайя (26:17) уподобляет дни рассеяния (по-еврейски галута) беременности, а приход Машиаха родам. «Муки Машиаха» сказано об этих временах.
Мессия не явится, пока последнее из царств не отойдет от Израиля. Это будет время, когда Израиль будет лишен даже подобия силы. Не будет работы ни скотине, ни человеку. Никому не будет мира от притеснителя.
Талмуд учит: «Не придет Машиах до того, как будут искать рыбу для больного и не найдут». А в другом месте Талмуда говорится: «Когда ты увидишь поколение, на котором многие беды текут как река, то жди его (Машиаха), как сказано: “Когда будет как река притеснитель, дух Божий истребит его. И придет избавитель к Сиону” (Исайя, 59:19,20)».
Поэтому во времена жестоких бедствий в еврейском народе многие ожидали прихода Мессии (крестьянские походы, «Черная смерть», изгнание из Испании, геноцид времен Богдана Хмельницкого). Эти ожидания неизменно оказывались тщетными, что законоучители объясняли отсутствием истинной праведности народа.
Ко времени прихода Мессии относится обещание Бога собрать весь народ Израиля в его земле. В мире начнут происходить удивительные события, в том числе появятся десять затерявшихся колен Израиля. В мире начнутся войны, и в это время явится Машиах бен Иосиф, который будет вести войну, победит в ней, но погибнет. Затем придет Машиах бен Давид, отстроит Храм в Иерусалиме, и настанут 40 лет мира. Однако после этого иные народы соберутся, чтобы захватить Иерусалим.
По воле Бога их планы сбудутся, они начнут воевать друг с другом. В результате этих войн будут великие беды и разрушения, но оставшиеся в живых придут к истинной вере в Единого Бога. «И будет Господь Царем над всей землей. В тот день Господь будет един и имя Его едино» (Захария, 14:9).
Приблизится эпоха, которую называют Будущим миром. А перед ее началом будет возрождение мертвых. Души всех, кто жил когда-либо на земле, снова вернутся в свои тела. Тела будут возрождаться из косточки «лоэ», которая расположена у задней части черепа человека и которая не подвергается разрушению после смерти. К концу шестого тысячелетия прекратится переселение душ и не будут больше рожать.
Пища людей будет только растительной, в ней не будет ничего нечистого. Человек будет питаться крайне редко, потому что совершенство души будет питать тело. Это произойдет потому, что дурное начало в человеке истребится, а в результате и тела будут очищаться, нуждаясь в материальной пище все менее и менее.
С началом седьмого тысячелетия от сотворения мира, который весь суббота, т.е. отдохновение, человек вообще перестанет нуждаться в материальной пище. После воскресения из мертвых все будут помнить, что с ними было и в этом мире, и в потустороннем. Сущность Бога и Его учения откроется всем.
Так, например, откроется, почему Тора запрещает есть мясо с молоком. Не будет ни войн, ни зависти, ни вражды, и все народы познают Бога.
Мир, который придет, не может быть описан детально. Все пророки пророчествовали только про Машиаха. А про Мир будущий сказано: «Ничей глаз не видел (того, что будет), Господь, кроме Тебя. И Он это сделал для тех, кто надеется на Него» (Исайя, 64:3).
Кроме традиционного, существует концепция реформистского иудаизма. Идея Мессии как персоналии была заменена идеей грядущих мессианских времен всего человечества.
Сугубо национальная вера в возвращение евреев в Израиль была отделена от веры в мессианские времена, рассматриваемые в универсалистских, гуманистических категориях. Идея Мессии и светлого мессианского будущего стала важнейшим вкладом в развитие человеческой мысли и явилась прообразом других форм мессионизма как религиозных, так и политических.
Тhe Dагк Аges — так называли эти времена. Мрачное, темное время по оценке одних и время высочайшего взлета духовного движения — по оценке других. Это время Джотто, Данте, Петрарки, время Августина, Ансельма, Абеляра, Фомы Аквинского, Оккама и многих других блестящих личностей, время рыцарства и необычайно образованных магистров, время вагантов и трубадуров, ученых диспутов и возрождения античных традиций. С другой стороны — процессы над еретиками и подсчет количества ангелов на конце иглы, бесконечные рассуждения о различных ипостасях зла и леденящие душу рассказы о способах борьбы с ведьмами…
Традиционное европейское образование всегда настолько было сосредоточено на истории Римской империи, особенно западной ее части, что мы — под влиянием этих традиций — склонны думать, что с III по IX век имел место общий упадок цивилизации.
Действительно, на большой части европейской территории нашествие варваров полностью разрушило почти все остатки античной цивилизации. Однако тем временем на остальной части Римской империи такие большие города, как Александрия, Антиохия и Константинополь, сохранились нетронутыми.
Далеко за пределами Римской империи на территории, после походов Александра попавшей под влияние эллинизма, включая Персию, Индию и Среднюю Азию, цивилизация продолжала процветать и развиваться.
«Арабское возрождение»
В VII веке благодаря возникновению большой исламской республики на огромном пространстве установились общая культура, религия и литературный язык. Это очень сильно стимулировало развитие культуры и, как следствие, науки.
Отчасти благодаря этому быстро распространились изобретения, созданные ранее в разных местах — сталь, шелк, бумага, фарфор. Греческая культура, ко всему прочему, не противоречила Корану, поэтому к VIII веку в Дамаске, Джундишапуре и Багдаде происходили сбор и общение ученых различных стран. В этих же центрах начали переводить на арабский язык сочинения греческих ученых. Халифы и знать с самого начала финансировали эту деятельность.
Тогда же произошло разделение классического наследия на две части — на естественно-научные и гуманитарные дисциплины. История эта такова. Интерес к античным источникам ограничивался почти исключительно естествознанием и философией, так как греческой историей арабы не интересовались по понятным причинам, литературой —тоже — из-за большого количества собственных прекрасных сказок и легенд. Когда же эти труды вновь стали известны Европе через переводы с арабского, в первую очередь это были труды по философии и науке, гуманитарные знания стали известны европейцам только в эпоху Возрождения благодаря прямым переводам с греческого.
Раздельное освоение классического знания привело к созданию барьера между гуманитарными и естественными науками, который удерживается, как это ни странно, и по сей день.
В период с VII по X век культура и наука арабов по многим признакам напоминала культуру эпохи Возрождения, что и привело к появлению понятия «арабское возрождение».
В числе других дисциплин арабские ученые развивали медицину и астрономию.
Объединяла их астрология, которая была связующим звеном между гигантским внешним миром, Вселенной, макрокосмом, и внутренним миром человека — микрокосмом. В этом проявилось важнейшее чувство, присущее древним и утраченное впоследствии — чувство неразрывного единства всего космоса и человека в нем.
В то время как мусульманский мир переживал расцвет, большая часть Европы все еще находилась в хаосе, вызванном падением Римской империи и нашествием варваров.
Раннее христианство
Первые века новой эры характеризуются появлением организованных религиозных вероисповеданий. Это было всемирным явлением. Между II и VII веками происходил рост влияния христианства, магометанства, а также буддизма в Китае и Юго-Восточной Азии.
Буддизм в Индии и зороастризм в Персии были основаны около семи столетий назад, в «осевое» время, но именно в первые столетия новой эры определены были доктрины и организовалось духовенство. Именно в этот период даже такая многогранная религия, как индуизм в Индии, упрочилась и привела в систему свои священные книги. Почему-то именно тогда впервые в истории человечества возникла потребность в религиях, основанных на твердой системе.
Для таких систем характерна иерархия, регламентация обрядов и, в качестве объединяющего начала — догма, включающая веру в такое устройство Вселенной (картину мира), которое описывается в священных книгах. Новая картина мира тщательно согласовывалась со священными текстами. Этот процесс занял свое место в истории науки и дал целую плеяду блестящих имен. Наиболее ярко он проявился в раннем христианстве, в недрах которого и зарождалась современная наука.
Взаимодействие христианской мысли и античного наследия имело своей целью построить непротиворечивую картину мира, основанную в том числе в Книге Бытия Ветхого Завета.
К V веку св. Августином был выработан компромисс между верой и философией. Вообще, можно сказать, что все Средневековье прошло в попытках согласовать разум и веру, философию и священное писание. VI и VII века были периодом, когда греческое наследие всюду порождало новые красоты и новые мысли. Произведения древних стали еще более доступны благодаря изобретению книгопечатания.
Второй раз после гибели греческой цивилизации перед человечеством стояла задача противостоять мощи античной культуры — в первый раз те же проблемы были у римлян… Теперь же и греческие, и римские образцы уже рассматривались как классические, и задачей было не подчиниться им безоглядно, а выработать на основе классической культуру своего времени…
В науке этот процесс шел сложнее. В сочинениях античных авторов содержалась бездна знаний, открывавшаяся всякому, кто пожелал и смог бы осознать их. Сирийцы и арабы, а после них средневековые схоласты и гуманисты эпохи Возрождения должны были исследовать эти знания шаг за шагом вплоть до их греческих первоисточников, не поддаваясь искушению принять то, что они не понимали, в качестве догмы.
Одновременно происходил процесс, приведший к синтезу искусства, науки и ремесла и к поднятию значения ремесел, что сразу привело к созданию предметов искусства и развитию техники. Кульминация этого процесса пришлась на эпоху Возрождения.
Университеты
Возрождение западного христианства началось в X веке. К XII веку начали появляться Университеты. Это были учебные заведения с обучением семи свободным искусствам, философии, и, конечно, теологии. В период 1100 до 1300 года университеты росли, как грибы после дождя. Обучение велось с помощью лекций и диспутов, так как книги были редкостью.
Хейзинга так описывает этот процесс (Йохан Хейзинга. «Homo ludens. Опыт определения игрового элемента культуры». М., Прогресс — Академия, 1992.):
«Когда к концу XI века огромная тяга к знанию о бытии, обо всем сущем, которая вскоре подтолкнет развитие университета как скорлупы и схоластики как ядра, там и сям разрастается в живое движение духа, то происходит все это почти с лихорадочной быстротой, как это порою бывает свойственно большим культурным переменам…»
Хейзинге принадлежит любопытная оценка жизни средневековых университетов, лежащая в русле основной темы его «Homo Ludens«:
«Вся жизнедеятельность средневекового университета облекалась в игровые формы. Бесконечные диспуты… пышные университетские церемонии… все эти явления… подпадают под категорию состязания и действия игровых правил…»
Что такое семь искусств?
Во-первых, это trivium — грамматика, риторика, логика. Они имели целью научить студента писать и читать грамотно по латыни.
Во-вторых, это quadrivium — арифметика, геометрия, астрономия, музыка. После этих семи искусств можно было перейти к изучению философии и теологии. Право и медицина преподавались на специальных факультетах.
В первое время своего существования университеты были центром интеллектуальной жизни. Именно на эту основу была привнесена арабская ученость, начиная с нескольких работ в XI веке, потом — в виде могучего потока в XII веке, когда значительная часть арабских и греческих классиков была переведена на латынь, преимущественно с арабского.
Любопытно, что фактически европейцы получали эллинистическую культуру, уже бывшую основой их собственной культуры.
Хейзинга писал об этом — в контексте темы «игрового элемента культуры»: «Средневековая жизнь полна игры, движения, буйных народных игр, полна языческих элементов, которые утратили свое сакральное значение и преобразились в чистую шутку, в пышную и чинную игру рыцарства, в утонченную игру курту- азности и целый ряд других форм.
…крупнейшие формы культуры — поэзию и обрядность, знание и науку, политику и войну — эпоха уже наследовала из своего античного прошлого. Эти формы были фиксированными. Средневековая культура уже не была архаической. Ей предстояло большей частью заново переработать предшествующий материал, будь то классический или христианский. Только там, где она не питалась от античных корней, не дышала церковным или греко-римским воздухом, оставалось еще место для творческого влияния игрового фактора, то есть там, где средневековая цивилизация развивалась на базе кельто-германского или более древнего автохтонного прошлого. Так обстояло дело с происхождением рыцарства и отчасти феодальных форм вообще».
С точки зрения развития науки период с IX по XIV век можно представить как объединенное арабско-романское усилие примирить религию и философию и завершить классическую картину мира. И перед арабами, и перед романскими народами стояли те же интеллектуальные проблемы — сотворенности Вселенной, примирения веры с разумом, действительности мистического опыта и т.д.
В результате в мусульманском мире был найден компромисс, сделавший прогресс науки бесплодным. В христианском мире спор продолжался до тех пор, пока греческая картина мира не была полностью разрушена и заменена другой.
Августин Аврелий — один из первых вырабатывал идеологию, политику, этику христианства, основываясь на широчайшей эрудиции в античном наследии. Влияние его идей на весь последующий христианский мир огромно. «Исповедь» Августина (М., Республика, 1992) с потрясающей силой донесла до нас то, какой на самом деле был Августин — Учитель, поэт, человек… Центральным вопросом творчества Августина был вопрос — кто он, человек, как ему жить? Возвышенный язык «Исповеди» — рассуждения об этом, о соотношении божественного и человеческого, о человеческой — его собственной — жизни. «Credo ut intelligam — Верую, чтобы понимать» — говорил Августин Блаженный.
Ансельм — подобно Августину, утверждал, что вера должна быть выше разума, однако вера может быть рационально обоснована. Ансельм развил т. н. онтологическое доказательство бытия бога — доказал существование бога, исходя из существования идеи о совершенстве.
Пьер Абеляр — одна из самых заметных и знаменитых фигур Средневековья. По словам Бернарда, аббата из Клерво, полагал, что «…при помощи человеческого разума возможно постигнуть все то, что есть Бог…».
Личность Бернарда не менее исключительна. Музыкант и архитектор, строитель первых готических соборов, развивший учение о мировой гармонии и божественном свете, оживляющем природу (эта идея была подхвачена Данте), аббат из Клерво, давший комментарий к «Песне песней», за что его считают отцом куртуазной поэзии… Данте делает Бернарда своим третьим провожатым, именно Бернард сменяет исчезнувшую Беатриче в последних песнях «Рая».
Бернард ставил веру выше слова, за право верить не рассуждая он и боролся с Абеляром. Возможно, Бернард чувствовал в рационализме Абеляра нечто большее даже, чем попытка пересмотра идеи святой троицы…
Личность Абеляра яснее всего проступает через строчки знаменитой «Истории моих бедствий» (М., Республика, 1992 г.). Мы видим здесь человека средних веков, необычайно яркого и талантливого, обладающего противоречивой натурой, критическим и ясным умом, необычайной гордыней и ощущением собственной правоты. Он читал лекции всей школярской Европе. Авторитет его был велик — в том числе и среди вагантов, сочиняющих стихи в честь своего учителя.
Истина находится в опасности — Бернар из Клервоса пишет в очередном письме папе про Абеляра:
«…человеческий разум… пытается постичь то, что выше его, он исследует то, что сильнее его… он свободно разгуливает среди того, что выше его, среди чудесного и великого».
Последние слова могли бы быть приняты как формула средневековых противоречий — дозволено ли «свободно разгуливать» среди великого?
Фома Аквинский. Основной принцип его философии — гармония веры и разума. Он считал, что разум способен рационально доказать бытие бога и отклонить возражения против истин веры: в своей работе «Сумма теологии» дал объяснение мира природы и человека как основы гораздо более важного дела божественного управления и человеческого спасения. Философия Аквината сложилась в результате теологической интерпретации учения Аристотеля. Официально признана католической философией как единственно верная.
Труд Фомы явился замечательным успешным примером систематизации и изобретательности. Он примирил отрывочные и часто противоречивые доктрины раннего христианства с разумом.
Росцеллин — один из первых представителей номинализма как течения, противопоставленного реализму. Его идеи были поддержаны, вопреки учению Фомы, францисканским монахом Дунсом Скотом.
Номиналисты доказывали, что вещи появились раньше их названий и идей. Они с успехом отвергали всю средневековую рациональную теологическую систему, рассуждая критически. Тогда родилось знаменитое положение Уильяма Оккама — «Сущностей не следует умножать без необходимости», или, точнее, «Не к чему делать с помощью большего то, что может быть сделано с помощью меньшего». Эта идея была чрезвычайно полезна для устранения из научной теории массы лишнего.
В те времена все, даже самые небольшие научные исследования, предпринимались почти исключительно для религиозных целей. Ученые, будучи духовными лицами, имели множество других занятий. Все, что они делали для науки, они делали в свободное время.
Исключения — Роджер Бэкон и Петр Пилигрим.
Развитие готической архитектуры шло от тяжелой массивности норманнской архитектуры XII в. до лучезарной легкости отвесных линий архитектуры XV века. В других областях культуры все менялось так же.
Технических новшеств, кроме архитектуры, почти не было. Наиболее важные изобретения — хомут лошади, часы, компас, порох, бумага, книгопечатание — пришли с Востока, причем большая часть — из Китая.
Многие изобретения, появившиеся в Европе в X в. и позже, подробно описаны в Китае уже в самом начале нашей эры. Как известно, ранний технический прогресс в Китае не имел продолжения, равно как и в Индии и в мусульманских странах. Зато в Европе приход новых изобретений вызвал революцию в технике.
В области представлений о строении Вселенной еще не пришло время сменить античную картину мира Аристотеля и Птолемея, сложившуюся 2000 лет назад. Зато в области духа благодаря идеям христианства в Европе произошли серьезные изменения.
Окончание периода готики (900-1500) означало для европейской истории новую фазу развития, на которую средние века оказали влияние не меньшее, чем возводимая в ранг образца античная культура.
Освальд Шпенглер назвал Средние века «целым тысячелетием мало оцененной и почти пренебрегаемой истории».
Эрих Фромм («Иметь или быть», М., Прогресс, 1990) писал:
«…если бы история Европы продолжалась в духе XII столетия, если бы в ней… развивался дух научного познания и индивидуализма, то сейчас мы находились бы в весьма благоприятном положении. Однако разум начал вырождаться в манипулятивный интеллект, а индивидуализм — в эгоизм. Короткий период христианизации закончился, и Европа возвратилась к своему изначальному язычеству.»
Развитие религии или философии после средневековья, по Фромму, «…характеризуется борьбой двух принципов: христианской, духовной традиции в теологической и философской формах и языческой традиции идолопоклонства и бесчеловечности, которая принимала множество различных форм в процессе развития того, что можно было бы назвать «религией развития индустриализма й кибернетической эры».
Из двух вариантов — иметь или быть — Европа выбирала первый.
О чем думает композитор, собирающий народные песни
Самое главное и ценное в собирательской работе – открыть человека, таящего в себе дремлющие творческие силы, которые от проявленного внимания приходят в движение. Тогда можно ждать самых непредвиденных открытий.
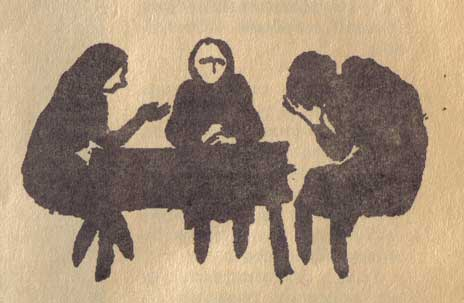
Т.Апраксина. Из цикла «Карпатские сюжеты». Тушь. 1985.
В свою первую экспедицию по собиранию народных песен я отправилась в Псковскую область летом 1953 года в числе четырех студенток Ленинградской консерватории.
Что побудило поехать? – Интерес, любопытство, горячее желание получить народную песню из первых рук.
«Вас ждут полевые записи. Вы можете встретиться с неожиданностями». Напутствия нашего преподавателя, маститого фольклориста, собирателя, композитора Ф.А.Рубцова пленяли новизной, романтикой. Не терпелось поскорее очутиться на месте.
Острота ощущений не покинет меня в течение всего долгого периода знакомства с народной песней, где бы оно ни происходило. Жизнь вся складывается из случайностей и мелочей. Они же и составляют основу творчества народа, раскрываясь постепенно в универсальных образцах и давая представление о закономерностях могучего источника вдохновения. Это – целостное явление искусства. У всех народов. Во все времена.
Осознаю я это уже позже, в процессе наблюдений, общения с людьми в реальной жизненной обстановке. А пока – жгучее желание увидеть, услышать. «Неожиданность» – метко предпосланное слово Ф.А.Рубцова открыло дорогу восприятию, обострило и сконцентрировало его.
Интересовало буквально все, что обступило, окружило нас, едва мы ступили на псковскую землю. И так происходило впоследствии всюду.
Этот интерес сохранился и в еще большей степени проявился значительно позже в моих уже самостоятельных экспедициях в Ивановскую область, где в Палехе, селе, всемирно известном школой художественной росписи, я начну свой творческий поиск именно с Музея палехского искусства. В этих местах невозможно было сразу заняться песнями, хоть я и имела определенное задание: узнать, чем богат Палех в песенном отношении. Разведка неожиданно превратилась в сбор песен самых разных жанров. (Подробно об этом рассказываю в книге «В поисках песен» (Записки композитора)).
Начав, таким образом, с Палеха художественного, обнаружу здесь непосредственную связь с песенным творчеством. И тут, и там стремление к многообразию трактовок одного и того же образа (варианты и вариации). Тут особенно ярко проявилась эта главная черта фольклора.
По-разному «звучат» излюбленные палещанами «Жар-птицы», «Тройки». Бесконечно разнообразны их толкования всего спектра явлений от сотворения земли до наших дней. По-иному звучит одна и та же песня не только у разных, но и у одного и того же человека в разное время дня. (См. этнографический сборник «Народные песни Ивановской области». Запись, составление, предисловие и примечания И.Ельчевой, Ярославль, 1968.)
Обстановка, где проживает народная песня, немаловажный участник творчества. Лишь в самом Ленинграде, где я ездила по письмам-откликам на цикл радиопередач «Как сложили песню» (1978-79 гг.), названия улиц мало что меняли. Здесь были важны только сами люди, ставшие горожанами, но сохранившие в неприкосновенности дух народной традиции.
Но это через много лет.
Пока же, в Псковской области, имея лишь первоначальные сведения о фольклоре, начинаю постигать его мудрость из самой жизни, при этом отличаясь непомерным энтузиазмом и полнейшей неопытностью.
Проявилось это в первый же вечер. Каждая из нас, четверых, начала действовать самостоятельно: кто в доме, кто на крыльце, кто на улице. Стою себе под деревом, ожидая когда молодежь соберется на отдых. Боевая готовность (связка отточенных карандашей на смену). Ничем не обоснованная, подкрепляемая нетерпением уверенность в успехе. Разве мне могло прийти в голову, что настойчивые просьбы запеть народные песни будут восприняты с недоумением, что молодежь села Холахальня не захочет срамиться перед «городской», и мне гордо заявят: «А мы все поем! И арии и романсы!»
Разочарование, досада… Не за этим ехали! Неудача! Но эта неудача и подготовила почву для будущих радостных потрясений, как это случилось, когда старейшие песенницы Н.Г.Дунаева, Т.И.Каношина, открытые ранее, удостоили нас своими откровениями, и старинная песня встала «во весь рост», годами хранимая в душе сгорбленной, шамкающей, со слезящимися глазами старухи.
Контраст первых впечатлений, врезавшись с силой в каждую из нас, дал невидимый вечный компас, направляющий внимание на внешне застывшее человеческое существо, внутри которого, оказывается, не прекращаясь бурлит духовная жизнь, окрыляя его и сообщая свой заряд окружающим. Что же это – артистизм или проживание (переживание)?
Второе родит первое – непосредственно, неосознанно, интуитивно. Потому-то так и действенно.
«Упало колечко» – романс драматического содержания.
Упало колечко
Со правой руки.
Заныло сердечко
По милом дружке.
Сказали, мил помер,
В могилу снесен…
и т.д.
Этим начала пятидесятитрехлетняя М.В.Дмитриева тогда, в июле 1953 года, в псковской деревне Лесицко. Оказалось, что песня больше, чем просто песня. Это был настоящий рассказ о пережитом.
«Упало колечко…» – трагический возглас, «вздыбленный» речитативной скороговоркой. Пауза… Далее горестный напев: «…со правой руки…» Неподдельный ужас в глазах.
Ошеломляюще! Не было сил записывать! Хотелось неотрывно смотреть на нее. А она, тоже не отводя глаз, всем существом словно искала у нас поддержки.
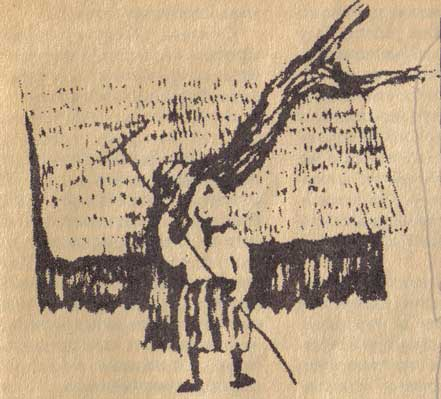
Т.Апраксина. Из цикла «Карпатские сюжеты». Тушь. 1985.
Во время следующих встреч с творческими личностями, подобными этой, меня поразит то, что этот РАССКАЗ – не просто выразительное пение песни – будет передаваться всякий раз с новыми подробностями, не так, как в прошлый раз.
Отношение к сюжету песни – предельно личное. Это явление открылось мне, когда старинная рекрутская «За Дунаем, за рекой», слышанная на Крайнем Севере двадцать семь раз, раскрылась в двадцати семи своих вариантах. Из них лишь три представляют собой во всей полноте сущность фольклора, то есть ВАРИАНТЫ КАК СПОСОБ СИЮМИНУТНОЙ ФИКСАЦИИ ЛИЧНОГО НЕПОВТОРИМОГО ОТНОШЕНИЯ к тому, о чем поется. Эти люди говорят так: «Я чужих не пою. Это все – мои».
Вот это-то и станет преметом моей «охоты» во всех сборах народной песни, и подарит подлинную радость открытия. Одно дело просто знать, что главнейшей чертой фольклора является изменяемость, вариантность, которая длит жизнь песни, и совсем другое почувствовать на себе воздействие этого, когда совершается чудо превращения.
Я собирала народное творчество по крупицам, потому что понаслышке поют многие, а ТВОРЯТ песню далеко не все.
К примеру, свадебная «Погости-ка в доме, гостюшка». Поют ее молодой замужней дочери при посещении родителей. «Умильно, прямо разревешься», – сказали женщины, работавшие на поле в деревне Бокари под Палехом, когда я подошла к ним с неизменным вопросом: «Не споете ли?»
Затянули распевно, с тоской, с безнадежностью и неверием в исполнение просьбы. Другой вариант этой песни я услышала через несколько часов в доме близ того же поля. Спета она была в совершенно ином характере: в прерывистых, словно всхлипы, фразах слышалась мольба, надежда на то, что молодая останется погостить.
Такие превращения всегда непреднамеренны, но основаны на той первобытной вере в воздействие, с какой, наверное, наши далекие предки-язычники обращались с заклинаниями к силам природы, взывая о благосклонности.
Эту главную черту фольклора определил 80-летний Евдоким Кириллович Торопов, когда я попросила его спеть былину о сынке Степана Разина. Он сказал, словно извиняясь: «Мы ведь не по-слаженному, не как кто требует, а сами по себе, как когда».
Мой сбор песен в Ленинграде стал для всех неожиданностью. «Я думала, сын пошутил, не напишет, что я знаю старинные песни», – говорит уроженка Смоленской области, пятьдесят лет назад приехавшая в наш город.
Говорит она обычным расхожим языком, а как запоет вдохновенно – в полной сохранности и диалект, и манера выговора. Безукоризненная серия календарно-обрядовых… (Среди прочих и эти записи легли в основу моего цикла для мужского сопрано и фортепиано «Лебедь белая»).
Важно не пройти мимо… Мимо человека, его великого духовного содержания. Оно уходит с ним безвозвратно, навсегда. Очень легко поверить в «ничего не помнит, ничего не знает». Можно отмахнуться и от пения без пояснений, как должно быть. Но вот появился кто-то интересующийся – спрашивает, располагает к разговору, ворошит застоявшееся, записывает.
Не все они и не всегда ночью все шепотом себе перепевают. И этот – нкчемный, списанный – слезет с печки или так и останется на ней, встрепенется, глаза устремятся в молодость, в песни, под которые «гуляно», которые «от старых стариков слыхал». А вспомнив, заново все проживает, молодея на глазах.
И в следующий раз скажет: «А, Орина! В прошлом-то году я тебе не все куплеты спел! Пиши!»
перевод с французского Тианы Князевой)
4.
Сила притяжения мысли
Теперь вы знаете, что наша мысль созидательна. И нам надо научиться понимать силу её притяжения. Что же представляет из себя Закон притяжения? – Это закон любви.
Но этот закон не имеет ничего общего с инстинктом, толкающим красивого юношу в объятия прекрасной девушки и наоборот (если при этом чувство велико, а физическое притяжение облагорожено его возвышенностью). Закон этот можно сформулировать так: «Тождественные вибрации притягиваются, объединяются и взаимно усиливаются».
Наука признаёт, что все вибрирует в нашей Вселенной. Теперь понятно, каким образом вы можете «притянуть» все, чего желаете, поддерживая свою мысль на уровне той вибрации, которая соответствует вибрации предмета вашего желания. И мы не напрасно употребляем слова «возвышенный» или «низменный», говоря о каком-либо образе, каком-либо чувстве, – наш язык всегда выражает истину. Мысль, полная надежды, любви, лишена всякого эгоизма. Восхищение, великодушие создают высокие, быстрые вибрации, которые соединяются с подобными себе и вместе образуют мощные колебания. Но вот мы испытываем «депрессию» (и вновь наш язык очень точно выбирает обиходное слово!), и наши вибрации замедляются, падают, и в нашем поле больше нет ничего счастливого, гармоничного, благоприятного. Вот так и ускользают от нас самые большие надежды. Мы уподобляемся магнитам, которые вдруг размагнитились. И необходимо сделать сознательное усилие, чтобы вновь возвысить наши вибрации до того уровня, который позволит приблизиться к желаемому.
Люди верующие обладают большей способностью возвысить угасающие вибрации посредством молитвы. Обращение к Богу, который любит нас, подчинение его воле даруют нам радость и изобилие. Молитва «Отче наш», произнесенная и прочувствованная, несколько раз в день настраивает вибрации верующего на тот уровень, который содержит в себе не только «хлеб наш насущный», но и духовное просветление. А тот, кто не имеет веры в Бога, должен иметь другую веру: например, в идеал, который значительно выше земных благ, и к которому вы стремитесь всеми силами.
Мой совет. Обратите внимание на то, что каждый раз, когда вы чем-то обескуражены, вы чувствуете снижение жизненных сил; и наоборот, надежда как бы приподнимает вас, увеличивает ваши силы. Сегодня попробуйте обратиться к надежде и вы почувствуете, как поднимается уровень ваших вибраций. В этот момент ничто не способно навредить вам: вы притягиваете счастье, как магнит железо.
5.
Кто вы?
Что видят в нас прежде всего? Нашу одежду. Есть люди, которые судят о нас по нашей манере одеваться.
Другие восхищаются прекрасной женской фигурой, невзирая на платье плохого покроя.
Для третьих ни одежда, ни физическая красота или уродство не играют никакой роли. Такие судят о людях по уму, талантам, характеру, способности чувствовать.
Ум, таланты, мягкосердечие, характер невидимы: они узнаются лишь по образу жизни, по делам, по поведению, по манере говорить. Все это в совокупности и создает личность.
О каком же из этих трех аспектов – внешнем облике, физических данных или личностных качествах – мы думаем, когда говорим «я», когда утверждаем «Я есть»? Тот или та из вас, кто говорит «я», думая лишь о своем пиджаке или платье, довольствуется очень эфемерным существованием.
Тем не менее есть люди, которые придают такое значение одежде, что стесняются себя, если они одеты плохо.
Многие говорят «я», имея в виду свое тело: Фауст продал душу дьяволу, чтобы вернуть молодость телу. Но тело подчиняется чувствам, интеллекту: сильное волнение может убить его, живое сочувствие, моральное или интеллектуальное, придать сил. Ум может сохранять ясность, когда тело слабеет. Когда мы говорим «я», то чаще думаем о совокупности этих качеств, о нашем интеллекте, индивидуальности. И это все? Верующие признают еще существование души, «бесплотного образа жизни», как определяет словарь. Душа может быть осквернена грехом – по ошибке.
Кто-то сказал, что тело является футляром души, которая, в свою очередь, является футляром духа. Ибо в нас есть искра созидательной силы, наше истинное «я», наше Я, невидимое и совершенное. И когда мы осознаем, что оно существует, оно оказывает свое лучезарное воздействие на нас, начиная с физического тела и кончая нематериальной душой.
Именно на это Я намекает тот, кто понял этот чудесный секрет: счастье – во Мне.
Это невидимое и совершенное Я обуславливает наше здоровье, наше долголетие, так же как и благополучие в делах, гармоничность нас самих и мира, в котором мы живем. Не забывайте об этом Я, реальном, невидимом и совершенном, – мы будем часто возвращаться к нему.
Мой совет. Согласны ли вы с тем, что красивая одежда, здоровое тело, живой ум недостаточны для счастья?
Стало быть, в нас существует нечто большее, чем внешний облик и индивидуальность? Осознайте же существование вашего Я, реального, невидимого и совершенного, вашего Духа, искры созидательной силы, создавшей мир таким, какой он есть.
6.
Изгнать страх
Мысль созидательна. Мы притягиваем к себе предмет наших мыслей. Мы создаем и притягиваем не только то, чего желаем, но также и то, чего боимся. Возможно даже то, чего мы боимся, притягивается сильнее, чем то, чего мы желаем, ибо с надеждой почти всегда сочетается сомнение, в то время как сама наша надежда слишком слабо светит, когда нас одолевает страх. Необходимо изгонять страх любой ценой.
На днях один врач, у которого я спросила, можно ли посетить подругу, больную скарлатиной, ответил мне: «Пожалуйста, если не боитесь…» Страх создает в нас состояние физического и морального замешательства, которое делает нас подвластными любым неожиданностям.
Наши неприятности, провалы, болезни родились из страха. Наши самые большие мучения также проистекают из него. Что такое ревность, если не страх потерять любимое существо? Агрессивность, если не страх перед агрессией? Мы живем, беззащитные, в постоянном страхе, мы окружаем себя негативными волнами, произнося сто раз в день слово «боюсь»: «Я боюсь опоздать… Я боюсь не понравиться… Я боюсь упустить это, боюсь, что мне не хватит того…»
Каждое из этих столь знакомых выражений закладывает по камешку в плотную стену, которая растет вширь и запирает нас в пространстве обыденности и печали.
Боритесь против страха, не только собственного, но и своего окружения и окружающего мира. Вообразите себе, во что превратилась бы Земля, если бы вдруг каждый из ее жителей, от простого человека до сильных мира сего, перестал подчиняться страху! Сразу же исчезла бы ненависть, стали бы возможны переговоры между великими державами, соглашения, плодотворные контакты, и воцарился бы мир, за которым последовали бы изобилие и счастье. Изгоните страх, замените его устойчивой верой в могущество духа, творца всех благ: лишь дайте ему возможность действовать. Ведь только наше беспокойство ставит перед ним преграду.
Не будем пренебрегать незначительными обстоятельствами, которые встречаются наиболее часто как в великих делах, так и в самых малых. Вот пример из жизни одной молодой женщины, которая, уходя в отпуск, узнала, что по возвращении будет уволена. Я позвонила ей: «что вы будете делать?» Она ответила мне, смеясь: «В настоящее время – ничего. Я должна отдохнуть во время отпуска. Самое главное – сохранить моральный настрой. А по возвращении начну искать новое место, причем уже сейчас знаю, что оно будет великолепным».
Действительно, все произошло в полном соответствии с ее словами. И это создала ее мысль: беспокойство и страх не подорвали ее возможностей.
Мой совет. Каждый раз, когда у вас готова будет сорваться с уст машинальная фраза : «Я боюсь того, боюсь этого…», прикусите язык и поспешите произнести уверенно, от всей души, от всего сердца слова: «Мне нечего бояться. Дух во мне бодрствует, я должен надеяться».
7.
В двенадцать месяцев вы не знали страха
Думали ли вы о мужестве, которое проявляет годовалый ребенок? Чтобы сделать свой первый шаг, подняться на первую ступеньку лестницы, ему потребуется такая же отвага, какая нужна взрослому, чтобы нырнуть с двадцатиметровой высоты или подняться на вершину горы. Дети – великие авантюристы. Но вот они подрастают, и посмотрите, как в эти решительные души закладываются ростки страха, проверьте, какой результат последует за этим.
Послушайте мамашу: «Осторожно, ты сейчас ударишься!»
Бабушку: «Этот ребенок убьет себя!»
Старшую сестру: «Ты простудишься!»
Няньку: «Только бы он не разбился!»
Он плачет после падения? Восклицания, раздающиеся вокруг, могли бы своей эмоциональностью убить человека средней чувствительности.
Чуть позже в игру вступает отец: «Ты никогда не научишься читать! Ты просто кретин!»
И так постоянно, пока образ проваленных экзаменов не утвердится в душе томящегося школьника. Если солидная конституция и психическое равновесие не уберегут его, несчастный ребенок будет всегда проникнут страхом заболеть, провалиться на экзамене, быть смешным и нелепым, страхом жить, страхом умереть, не считая прочих форм страха, самой банальной из которых станет робость. И все это создаст глухую стену между ним и счастьем.
Я указываю на происходящее в детском возрасте для того, чтобы вы поняли, что страх, живущий в нас, не имеет естественной причины: он приобретен или, точнее сказать, он нам навязан тревогой наших старших родственников. А теперь сделайте вывод: поскольку страх был нами приобретен, постольку мы можем и освободиться от него. Но необходимо терпение, ибо за один день нельзя освободиться от привычки, вдалбливавшейся нам в течение многих лет. Но все-таки это возможно, это абсолютно реально.
Если у вас есть дети, вы дважды дадите им жизнь, зажигая в душах мужество и надежду вместо того, чтобы душить эти качества. Ибо страх – это противоположность осторожности и осмотрительности.
Мой совет. Каждый раз, когда вы подумаете: «Я не способен» или «Я заболею», или «Я опять провалю это дело», внутренне обратитесь к члену семьи, посеявшему страх в вашей душе: «Ты ошибаешься, я достаточно умен» или «у меня все данные для того, чтобы преуспеть». Таким образом, положительная мысль, немедленно противопоставленная отрицательной, созидательное слово, опровергающее слово разрушительное, помогут вам обрести веру в себя и свое существование.
8.
Персидский принц
Страх не является гарантией безопасности, он не имеет ничего общего с осторожностью. Напротив, любое решение, принятое под воздействием страха, бросает нас прямо в пасть к волку.
Давным-давно жил на свете персидский принц. Он жил счастливо в своем дворце в Исфахане. Однажды утром, прогуливаясь среди прекрасных роз, он увидел Смерть с косой в руке. Она, казалось, поджидала его на повороте аллеи. Она сделала рукой жест, который он принял за угрозу, и исчезла. Возможно, на месте принца мы тоже испугались бы, подобно ему. Страх не позволил ему воспротивиться смерти, он не подумал о Духе, охраняющем его от всякой беды. Он побежал к своим конюшням, приказал подать лучшего коня и пустился вскачь. Он думал об одном: бежать от смерти. Он боялся, ох, как он боялся!
Целый день скакал он по дороге в Хираз, а когда наступила ночь и он решил, что находится вне опасности, Смерть возникла перед ним. Принц остановился, похолодев от страха. А Смерть сказала ему: – А вот и ты, наконец! Сегодня утром, когда я увидела тебя в твоих садах в Исфахане, среди роз, я не смогла сдержать жест досады, зная, что вечером должна взять тебя по дороге в Хираз… Я подумала: ну как сможет он через несколько часов оказаться так далеко от своего дворца? Но твой страх сослужил мне службу: ты сам поспешил на свидание со мной…
Иногда этой легенде приписывают другой смысл: в ней видят доказательство неотвратимости судьбы. Однако в действительности она учит нас никогда не уступать порывам страха. В девяти случаях из десяти мы являемся творцами собственных несчастий, порождаемых страхом.
Так умер персидский принц. Скажите себе, что страх является наихудшим советчиком, могучим помощником зла. Уничтожьте в себе все мысли, связанные со страхом, сделайте для себя законом ни о чем не судить под его влиянием, а особенно не делайте ни одного шага по его команде. Вы прекрасно знаете, что во время пожара наибольшее число жертв бывает из-за паники, а не от огня. Если бы толпа превозмогла страх, большинство людей могло бы спастись. Ибо что такое толпа? Это соединение большого числа индивидуумов. Отказавшись от страха, не поддаваясь ему, помогая тем, кто вас окружает, вы можете спасти мир, умирающий от страха.
Мой совет. Постарайтесь вспомнить все ваши действия, совершаемые под влиянием страха, и то, что за этим последовало. Можно утверждать, что страх и алчность являются причиной самых больших глупостей. Ибо алчность, если хорошо поразмыслить, лишь форма страха не получить желаемое. Научитесь же отличать панику от того, что советует здравый смысл. И действуйте в соответствии с ним.
(Продолжение следует)