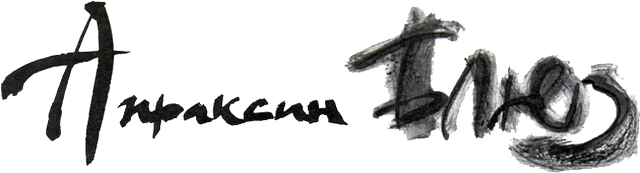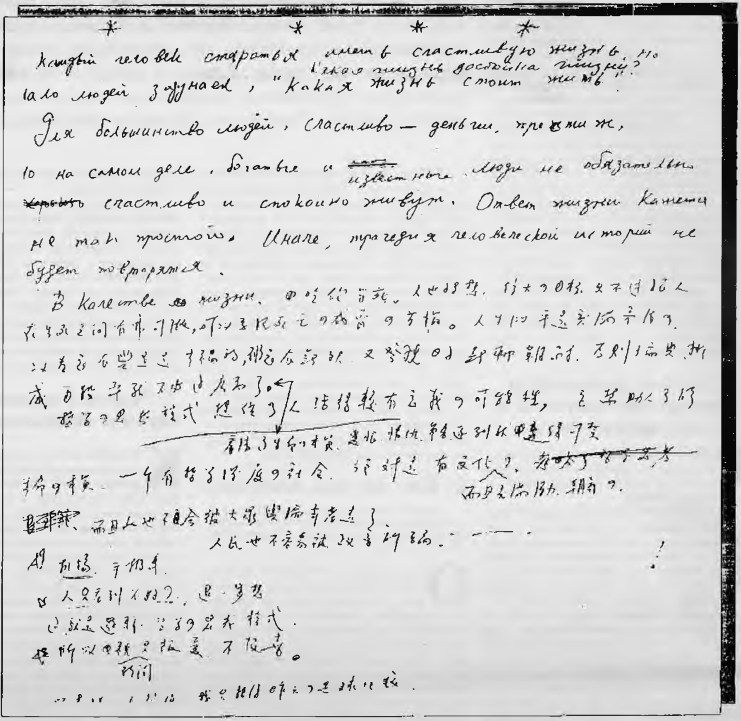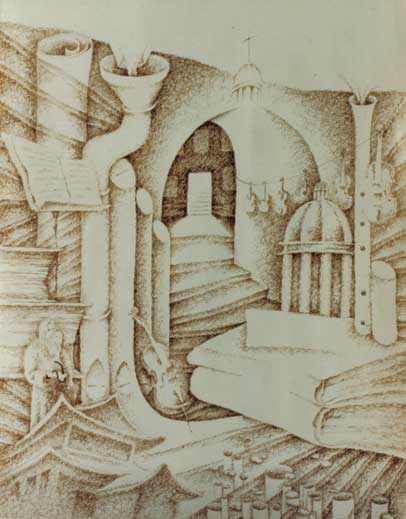Одной из самых трудных задач для человеческого сознания является задача — составить представление о том, как родилась мысль, когда она родилась и каковы были причины этого.
Существует источник, который, по меньшей мере, дает представление о том, когда и где возникла человеческая мысль. Это данные археологии, результаты раскопок в Африке и поисков скелетных остатков человека, — работы, которые ведутся с чрезвычайным для гуманитарных наук размахом в последние 30 лет, хотя начались они куда раньше. Археология потому поставляет материалы по вопросу, столь от нее далекому, что работа человеческой мысли запечатлелась в каменных орудиях, дошедших до нас. Отсюда можно судить о начале человеческой мысли — в части мыслительной деятельности, которая касается трудовых процессов.
Одним из первых изобретений было изобретение орудий, при помощи которых человек воздействовал на природу. По-мимо этого, в то же самое время происходит ряд перемен в поведении, в образе жизни, перемен, которые прежде всего позволяют человеку воспользоваться своими первыми интеллектуальными успехами — включить в рацион, наряду с растительной, еще и мясную пищу. Перемены включали также оседлый образ жизни. Все предшественники человека — высшие обезьяны, ночуя на одном месте, утром пускаются в путь в поисках пищи и проводят следующую ночь на другом месте. После ночевки обезьян ничего не остается. Напротив, те существа, которые научились пользоваться каменными орудиями, которые начали добывать мясную пищу (а обезьяны всеядны и питаются почти исключительно растительной пищей), проводили на одном месте столь много времени, что после стоянки на месте их лагеря оставались кости животных, обломки камня от производства каменных орудий, сами орудия. Это позволяет археологам раскапывать скопления оставленных отбросов, захороненных под толщей последующих отложений. Скопление отбросов жизни на одном месте является условием их обнаружения, условием существования современной археологии — без этого археологам нечего делать.
Так или иначе, совпадение во времени двух событий — изменения в поведении приматов, которые были на пути к очеловечению — во-первых, и начало изготовления каменных орудий — во-вторых — дает в руки тех, кто пытается представить себе появление человеческой мысли, источник для размышлений.
Однако что дает основания строить предположения о работе человеческой мысли? Поводом размышлять в этом конкретном направлении является восстановленная археологами процедура приготовления каменных орудий. Это не первая гипотеза, или — не первая догадка о том, как именно возникли каменные орудия. Исходной была догадка иного рода. Предполагалось, что первые орудия были результатом подработки камня в незначительной степени — приострения его края. Другие исследователи считали первыми не каменные орудия, а изделия из кости, точнее — просто кости животных соответствующих размеров и формы (гипотеза т.н. естественных орудий, предметов, используемых в качестве орудий с незначительной их модификацией). Но все эти догадки не получили подтверждения в находимых археологами каменных изделиях на стоянках. Напротив, оказалось, что самые первые изделия из камня являются не простой попыткой улучшить камень, случайно подвернувшийся под руку. Первые орудия — это первая технология.
Изготовление орудий из камни, оказывается, не существовало без технологии, без ступеней изготовления одинаковых на всех стоянках человека, без использования одинаковых приемов работы с камнем. В наше время для изготовления орудий нужны заготовки, и для того, чтобы получить заготовки, нужны куски сырья, удобные для транспортирования. В самом начале производства каменных орудий, насколько глубоко мы смогли проникнуть в глубь миллионов лет, мы застаем ту же самую процедуру, с теми же самыми этапами.
Человек находил поблизости от своей стоянки либо выходы сырья — камня того или иного рода, либо валуны — именно той породы, которая могла быть им использована, и изготовлял из них довольно сложную и довольно правильную — для начала человеческой деятельности — фигуру из камня — трехгранную или четырехгранную призму. Именно такая фигура позволяла приготовлять заготовки, называемые археологами сколами. Кусок же породы, специально обработанный, с которого можно сколоть заготовку, получил название — ядрище. И далее, уже имея заготовки — сколы, можно было изготовить то, что в археологическом смысле слова называется: орудие каменного века.
Это был процесс модификации заготовки, получение выпуклого или вогнутого контура края, или, напротив, получение прямого края, если край заготовки был кривым или неровным. Модификация могла заключаться в создании острия из заготовки с параллельными краями, или в создании поперечного края. Способ изменения края, отрезания от него лишнего у археологов носит название: ретушь, а процесс — ретуширование, хотя в обыденном языке это слово используется для иного процесса. Все составные части процесса или большая его часть часто протекали на одном месте. Собранные на одном месте ядрища и сколы иногда складываются, что вносит момент особенной подлинности в воссоздание происходившего миллионы лет назад процесса. Мог ли такой (трудовой) процесс протекать без участия сознания? Могли ли животные изготовлять такие орудия?
Видимо, это маловероятно. Нужно иметь в виду не собственно проведение этого процесса (при научении обезьяны), речь идет о том, могла ли обезьяна изобрести процесс, о котором говорится. Как полагают специалисты, фиксация и передача такого процесса от поколения к поколению возможна только в процессе научения. Если умение рвать траву животное, питающееся растительной пищей, наследует от родителей, обучения в этом случае не требуется. Изготовление же ядрищ, заготовок, орудий из заготовок не может передаваться генетически. Это требует индивидуального научения.
Соотношение трудового процесса и мыслительной деятельности относится к трудноразрешимым вопросам становления человека. Невозможно трудиться, в человеческом смысле этого слова, то есть действовать согласно сложной программе, где порядок действий строго обозначен и существование одного процесса обусловлено существованием другого, следующего, без мысли и орудия. Получается, что без способности к целеполаганию не может быть трудовой деятельности. А с другой стороны, допустимо думать, способность к мыслительной деятельности как раз и порождается трудовым процессом. Что же было раньше — сначала интересующее нас существо начало трудиться и в процессе труда обрело способность думать? Или еще до начала трудовой деятельности оно было способно к целеполаганию, но в другой области — вне трудовой деятельности?
Что можно сказать с большой долей вероятности — что существо, которое изготовляло каменные орудия, обладало способностью к целеполаганию. Оно могло построить несложную, с нашей точки зрения, программу, но она оказалась, в силу своей простоты, универсальной программой всего труда на последующие миллионы лет.
В этой программе (напомним: получение сырья, далее — изготовление из него ядрища, затем раскалывание ядрища с целью получить заготовки, и наконец, в итоге — изготовление орудий из заготовок) очевидны некоторые ограничения. В самом деле, собственно труд остается как будто за пределами этой программы, точнее, труд следует за этой программой, а программа является условием труда, поскольку труд нам представляется в виде действия с непременным использованием орудий. Такое сужение трудового процесса, такое ограничение наложено качеством источника, который имеется в нашем распоряжении.
Археологи более всего знают о процессе изготовления каменных орудий, меньше знают о других видах деятельности — для самых первых шагов человека. Разумеется, когда я говорю о трудовой деятельности, я имею в виду весь ее объем, включавший и устройство простейших жилищ, и собирание растительной пищи, и добывание мясной пищи, и изготовление каменных орудии. Но орудия, которые есть в нашем распоряжении, способны лучше рассказать о том, как их делали, чем о том, как их использовали. Если мы и знаем, как примерно их использовали, то эта картина является менее существенной для нас ввиду задачи, стоящей перед нами — попытаться представить себе работу человеческой мысли в самом начале — скажем, в пределах самых ранних источников о человеке.
Теперь самое время сказать о том, когда проходил процесс, о котором идет разговор. Если в середине нашего века определение возраста геологических отложений — тех, что нас сейчас интересуют, было делом приблизительным, то теперь в физике существуют методы определения возраста пород, называемые в совокупности радиометрическими. Они позволяют получить сравнимые результаты для тех отложений, которые вмещают культурные остатки и которые, по мнению геологов, одновременны или следуют одни за другими. Результаты применения методов, после их проверки с точки зрения геологов и археологов, оказались удовлетворительными.
По данным одного из радиометрических методов — калий-аргонового, где используются изотопы этих элементов, отложения с древнейшими орудиями человека имеют возраст более двух миллионов лет. Все стоянки этого возраста, с каменными орудиями, с костями животных, редко — с остатками примитивных жилищ — найдены только на африканском материке.
Конечно, читатель ведает, что есть еще один источник, который повествует о том же самом — о становлении человека. Это антропология, наука, анализирующая скелетные останки человека, а заодно и тех существ, которые близки к человеку, или даже представляются какими-то существами, переходными к человеку. Действительно, сейчас найдено много, по сравнению с серединой нашего века, костей существ возрастом около 2 миллионов лет.
Антропологам середины века казалось, что по строению черепа, по костям конечностей можно судить определенно, принадлежат ли эти кости человеку или обезьяне, поскольку грань между ними совершенно определенная. Теперь же оказалось, что эта разница — разница в основном биологическая и сводится к тому, что это существа, жившие 3-4 миллиона лет назад и бесспорно обладавшие прямохождением. Поскольку в некоторых случаях был известен еще и череп, а не только длинные кости конечностей, то удалось показать, что среди существ, вставших на путь гоминизации (превращения в человека) есть прямоходящие существа, у которых, упрощая, мозг еще вполне обезьяний. А вот у других существ, возраст которых около 1.8 миллиона лет, наблюдается рост объема мозга, и их мозг уже несопоставим с мозгом обезьяны — он стал крупнее. Данные более раннего происхождения — начала или первой половины нашего века — давали другую картину. Тогда, на основании более поздних находок, казалось, что более совершенный мозг и прямохождение совладают в своем появлении.
Эти рассуждения имеют прямое отношение к вопросу о том, как появилось мышление. Если принять во внимание нынешние данные о распределении во времени появления прямоходящих существ, бывших где-то на пути появления более совершенного, чем обезьяний, мозга, то получается, что возникновение прямохождения (около 4 миллионов лет назад) не имеет в качестве причины для себя, по крайней мере, орудийной деятельности человека, оно появляется раньше изменений в строении мозга. Причины для этого нужно искать где-то в другой области.
Что касается объема мозга, то при всей относительности связи мозга с мыслительной деятельностью — поскольку кроме количественного показателя — объема, есть еще и качественный, — рост объема мозга, пожалуй, скорее следует за началом изобретения орудий, за началом трудовой деятельности. Он случился после изменения в поведении, которое нашло отражение в археологических материалах.
Соотношение во времени разных существ — гоминид, как их называют антропологи — дает материал для изменения прежней точки зрения. Начало процесса антропогенеза — появление прямохождения — не удается связать с трудовой деятельностью. Между этими двумя моментами — более двух миллионов лет.
Причины гоминизации лежат где-то вне трудового процесса. И лишь в середине долгого пути мы видим орудия, отмечающие дня нас начало трудовой деятельности.
Первая мысль человека, которую мы можем прочесть, связана с трудом. Ко была ли она первой?